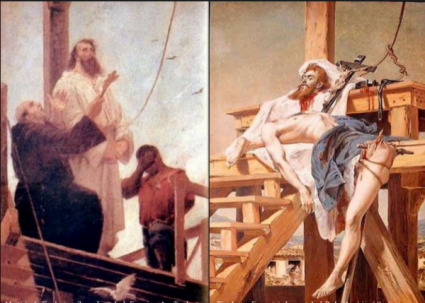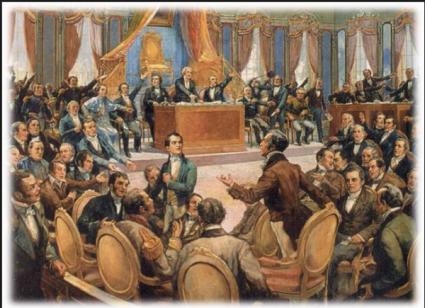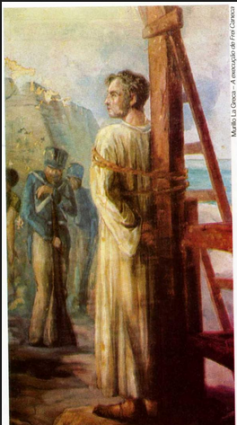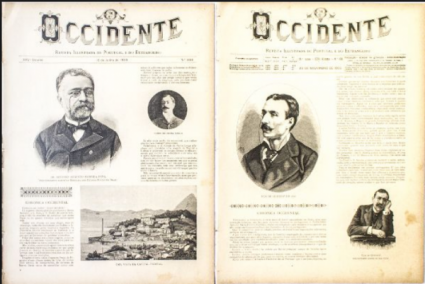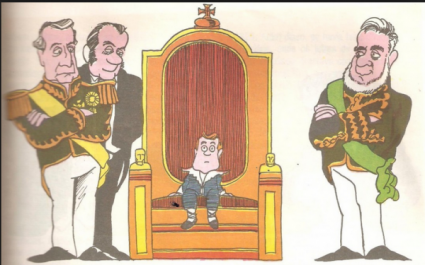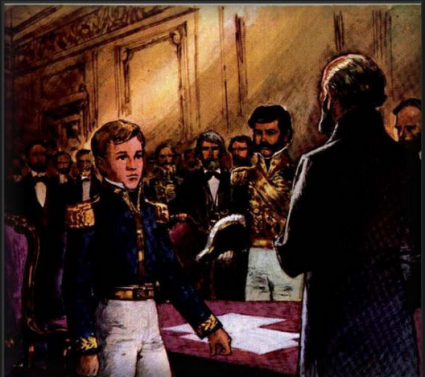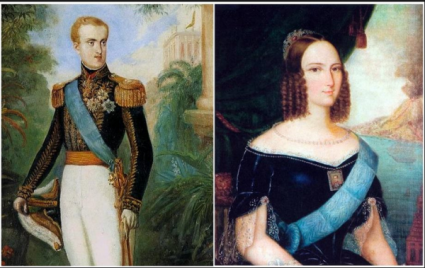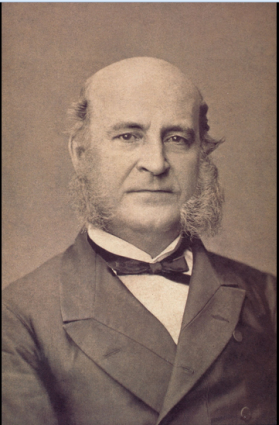На далёкой Амазонке

Латинская Америка, как известно, в основном, говорит по-испански. Но не только, и с франкофонной ее частью, Гаити, мы уже разобрались. А теперь, отложив на потом основную часть, давайте поговорим о португальской, тем паче, она, как я понимаю, менее известна...
Колеса диктуют фургонные...
Ранний период истории Бразилии, примерно век после открытия ее Кабралом, – кладезь сюжетов для авантюрных романов, блокбастеров и сериалов. С французскими корсарами, голландскими оккупантами и храбрыми португальскими колонистами, в конце концов, прогнавшими и тех, и других без всякой помощи метрополии, с дикими индейцами и охотниками за рабами, с золотыми лихорадками и похитителями бриллиантов, с первопроходцами, продвигающими фронтир на север, юг и вглубь континента. И так во всех 14 «капитаниях», наследных феодальных владениях, иные размером больше самой Португалии, владельцы которых (donatarios) отвечали перед королем за развитие дарованных земель. Везде и всюду. На все вкусы, какие только есть.
Вот, скажем, север. Благородная Баия, моральный центр всех португальских владений в Америке, - Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и прочие Ресифи тогда еще были мелкими грязными городишками, промышлявшими всякими промыслами, - основанная исключительно дворянами-фидалгу и поднявшаяся благодаря Королю-Сахару, которого Европа требовала все больше. Поскольку тамошние индейцы отличались особой дикостью, примерно на уровне никому тогда еще неведомых австралийских аборигенов, приучить их к труду на плантациях оказалось невозможным, -
и естественно, в колонию, как тогда полагалось, повезли «черное мясо» из Африки. А мясо это, воспользовавшись разборками домов с голландцами, разбежалось, и в джунглях «капитании» Пернамбуку появились сперва киломбу, поселки беглых, сидевших тише воды, а примерно с 1640 года уже и «конфедерация» этих поселков, известную как «Республики Палмарис». На самом деле, конечно, не республика, а этакая варварская демократия во главе с ганга (царем-жрецом) по имени Зумби, - крещеным и даже грамотным негром, -
после чего началась полувековая война, оказавшаяся совсем не такой легкой, какой поначалу казалась. Чернокожие выстроили укрепления, купили у голландцев, обрадованных возможностью сделать домам гадость, оружие, неплохо его освоили, и их армия (до 10 тысяч бойцов) держала оборону аж до 1695 года. Затем регулярные войска, присланные из метрополии, - 6 тысяч солдат, - подтянув ополчения даже с крайнего юга, сумели, наконец, поставить точку на эксперименте. Однако пленных, на которые очень рассчитывали владельцы плантаций, почти не было: тысячи защитников Макаки, стольного града «конфедерации», видя, что вариантов нет, бросились в пропасть. Не знаю, с радостью ли, но в рабство они не хотели.
Согласитесь, вполне себе сюжет. А кому не нравятся межрасовые конфликты, вот вам политкорректное. В 1684-м, - «черная» война была в самом разгаре, - параллельно началась и война «белая»: цены на сахар упали, и в Лиссабоне создали специальную компанию, предоставив ей исключительные права на закупку сахара и завоз в Бразилию рабов. Естественно, закупочные цены на «белое золото» монополисты уронили, а на «черное золото» взвинтили до небес,
и столь же естественно, «сахарные графы» терпеть такого не пожелали. Ну и грянула самая настоящая гражданская, по всем европейским стандартам, с пехотой и конницей, и хотя в итоге купцы помещиков одолели, а их «капитана», благородного Мануэла Бекмана, поймали и казнили, Лиссабон, совершенно не желая усмирять верноподданных, против короля ничего не имевших, монополию ликвидировал и монополистов за самоуправство оштрафовал.
А через четверть века все повторилось, только на сей раз плантаторы из Олинды, - первой столицы «капитании» Пернамбуку, не поладили с «коробейниками» из портового Ресифи, которые, по их мнению, наживались на честном плантаторском труде, купаясь в золоте, тогда как трудяги-плантаторы бедствовали. Более года «капитания» полыхала, однако в 1711 благородные проиграли вторично, и на сей раз уже навсегда: Олинда быстро захирела, зато портовый Ресифи стал центром «капитании».
В общем, на севере жили весело. Но и юга не скучали. Пока фидалгу из Баии разбирались с французами, голландцами, Палмаресом и спекулянтами, «паулисты», - рисковые парни попроще, из плебейского Сан-Паулу, - на свой страх и риск вели наступление на испанские колонии бассейна Ла-Платы. Именуемые недругами «мамелюками», а сами себя гордо называвшие «бандейрантуш» (потому что организовывались на военный лад, в отряды-«бандейры»), - калька с российских первопрохоцев и пионеров Северной Америки, - они двигались на запад обозами, вместе с семьями, как позже буры эпохи Великого Трека. Под знаменами, при пушках, гоня стада.
Шли неспешно, обстоятельно, порой на год-два оседали, ловили индейцев, обрабатывали землю, потом, когда на готовенькое приходили новички, продавали землю и рабов, и шли искать счастья дальше, осваивая ничейную «серую» зону раньше медленных испанцев, и даже не думая, что устанавливают границы нынешней Бразилии. Споткнулись только в долине Параны, в так называемой «Стране Иисуса», куда еще раньше них добрались отцы-иезуиты, основав там сеть «редукций», в которых приобщали к культуре местных индейцев, - что интересно, не силой, но добрым словом, хотя, конечно, имея с того немалую выгоду, ибо в ответ на ласку индейцы работали от души.
Тут война пошла по-взрослому. Редукции горели, целые племена были уничтожены или бежали в леса, там в считанные годы теряя приобретенную цивилизованность, - и сперва святые отцы дрогнули. В 1640-м они организовали Великий Исход, уводя свою паству поближе к испанской границе, прижавшись к которой и получив от испанцев оружие, вывели против «мамелюков» уже безобидный «ангелочков» (так они звали подопечных), а совершенно озверевшее индейское ополчение при мушкетах. Далее был полный разгром, после чего разгромленные бандейранты сочли за благо заключить мир и с тех пор промышляли невинной, всем полезной контрабандой.
«Бандейрантуш» шли и на юг, в пампу. Громадные усадьбы, море скота, возделанные поля, - от тростника и фруктов до оливок и маниоки. Мясо, кожи, рыба, краснокожие рабы, - и соответственно, новые города, где все это скупали оптом и продавали дальше, в Европу. Дошло до провозглашения отдельной колонии, Сакраменту, а затем до войны (своими силами) с испанцами, законными хозяевам этих земель, и доны одолели домов, в связи с чем, Banda Oriental, - «Восточный берег» а ныне Уругвай, - сегодня говорит не по-португальски, однако «мамелюки» сумели отстоять столько территории, что Сан-Паулу превратилось в отдельную «капитанию».
Правда, работорговля перестала быть выгодной в связи с исчезновением большинства индейцев, зато в компенсацию Бог послал золото, - но не сказать, что к счастью. На запах желтого металла ринулись еmboabas, - искатели удачи, - всех цветов кожи, из всех «капитаний», даже из Португалии, и поскольку «бандейрантуш» были не теми людьми, которые легко отдают свое не пойми кому, в 1708-м случилась самая настоящая война. В итоге скопища понаехавших во главе со степным бандитом Мануэлом Нуна Вьяна, разбили «мамелюков» и вышвырнули их с обжитых мест, заставив уходить на запад, - где они, впрочем, нашли новые прииски и даже алмазы. Естественно, «эмбоабас» рванули и туда, но тут уж подсуетилась метрополия: присланные войска объявили алмазные поля «особым округом Диамантину» и, опираясь на «мамелюков», получивших льготы, закрыли округ от внешнего мира.
А золото и алмазы, они и есть золото и алмазы. Иммиграция выросла на порядок, появились новые города, естественно, новые «капитании», фактически в полной власти огромных семейных кланов Отцов-Основателей, возникла нужда в портах, и вслед за нею, ясен пень, порты, - а поскольку много людей едят больше, чем мало людей, расширялись поля и тучнели стада. Да, ручками, ручками, в диких условиях. Но: хлопок и табак, кофе и лен, пшеница, маис и виноград, ваниль, какао, картофель. Плюс еще много всякого. И: невероятно много скота. В итоге, когда рудники иссякали, голодными не остались, и к слову сказать, donatarios, как бы законные владельцы всего и вся, к этому времени уже давно ничего не контролировали, - а как? - довольствуясь скромной данью с как бы своих земель.
Однако нет добра без худа: хиреющая, беднеющая Португалия, внезапно получив мощный допинг, позволивший ей вырваться из испанской тени, использовала шанс не лучше, чем Испания, полутора веками ранее промотавшая золото Нового Света. Ибо зачем что-то менять, стараясь строить свое, если все можно купить? А это сказывалось. Лиссабон вводил налог за налогом, ограничение за ограничением, глуша на корню все, что могло отвлечь от поставок и беся вполне верноподданное население, - а тут еще европейская война эхом докатилась до Западного полушария, и вновь появились французы, грабившие побережье до нитки. Пару раз захватывали даже Рио, - и хотя голодать не голодали, однако застой был очевиден всем.
Так жить нельзя!
Светлая полоса началась в 1750-м, когда в Лиссабоне встал у руля, полностью подчинив слабенького короля Жозе I, знаменитый маркиз Помбал. Сложный человек, подловатый, мстительный, с явной садистинкой, - но при этом бесспорный «просвещенец», трудоголик и фанатик-государственник с манией реформировать все, волей добиваться своего и пониманием, как достичь задуманного. Португалия рванула вперед, и Бразилия тоже не осталась в стороне: стремясь навести порядок в управлении и финансах, маркиз в течение пары лет сделал все, чего до него не могли сделать десятилетиями. Упразднил тухлую систему donatarios,
у кого-то права выкупив, а у кого-то и отняв. Почистил аппарат, допустив к управлению и судебным должностям местных уроженцев, ослабил волокиту, разрешив решать на месте не самые важные дела, а в 1763-м, переняв ценный опыт испанцев, подчинил все капитанства единому центру в Рио-де-Жанейро, перенеся формальную столицу с севера, из Баии, на юг. было учреждено бразиль¬ское вице-королевство и столица перенесена из исторического центра Баии в Рио-де-Жанейро. Что было и мудро, и дальновидно, поскольку значение «сахарного» севера, проигравшего конкуренцию французской Вест-Индии, шло на нет. А вот юг, - золото, табак, корица, скотоводство, лес, - наоборот, был на взлете, и на его богатства очень нехорошо посматривали испанцы.
В итоге, «город лавочников», по всем параметрам уступавший «благородной Баие» (первый вице-король, граф Афонсу да Кунья, писал Помбалу, что, «несмотря на величественную красоту холмов, сверкающие воды залива, сам город наносит глубокую рану человеческим чувствам») всего за несколько лет разросся и похорошел. Ну и, наверное, следует сказать, что в это время навсегда покончили с «второсортным» статусом индейцев, заодно и выгнав иезуитов – формально, как «мракобесов», но фактически, ради конфискации их имущества, - а поводом стал отказ святых отцов передавать испанцам, согласно Мадридскому договору 1750 года, земли семи миссий. Отцы мотивировали это тем, что под испанцами индейцам живется плохо (что было правдой), но их, естественно, никто не слушал.
Впрочем, «индейским вопросом» Помбал тоже интересовался. Дров, конечно, наломали много: лесные племена, оставшись без защиты падре, быстро вновь одичали, став жертвами использовавших момент «мамелюков». Но, с другой стороны, формально рабство индейцев запретили навсегда, и даже там, где не везло, они все же рабами не считались, а «раболовов» наказывали, подчас и виселицей. Поскольку же в неволе индейцы, даже в статусе «пеонов», долго не жили, Помбал поощрял португальцев ехать в колонию, и они ехали. Правда, на плантациях мало кто оседал:
большинство уходило в «вольные края», обустраивая фермы, или пристраивалось на богатые фазенды, или искало счастья на рудниках, - но нет худа без добра: в итоге внутренние области наполнялись рисковыми, работящими людьми, а для работы на плантациях пришлось завозить африканцев, причем правительство дотировало завоз, оставляя в Бразилии часть прибыли, и в результате, количество чернокожих в колонии выросло с четверти до трети населения.
В общем, хорошее было время, и даже после смерти короля и падения Помбала (его многие не любили и как либерала, и по личным моментам), какое-то время по инерции шло в том же направлении. Поскольку на высшем уровне разрешили, появились, наконец, первые свои мастерские, почти заводики, свой металл, свои ткани, начал складываться внутренний рынок, - а потом все резко оборвалось. Новые люди в Лиссабоне были, мягко говоря, не помбалами, они вольности поощрять не собирались, -
и в какой-то мере их можно понять: пример беспредела в американских колониях Англии, где тоже все началось с экономики, совсем не вдохновлял. И уж пример Парижа тем паче. Да и денег было нужно все больше, и с кого же было драть, как не с Бразилии, дававшей более 80 % импорта всех колоний и половину всего португальского импорта? Тем паче, что цены на сахар вновь пошли вверх, и тростник был определен, как госпрограмма № 1, а все прочее, - всякие там рудники, заводы, агрономию, - побоку.
Восстанавливая статус-кво, Лиссабон щемил круче, чем до Помбала. «Капитаниям», как встарь, предписали узкую специализацию, внутренняя торговля строго-настрого запрещалась. Вновь только через португальские компании-монополисты, и никак иначе, и только у них покупать все нужное, естественно, втридорога. Так что, очень быстро одним из самых почтенных занятий стала контрабанда, благо английские суда приходили постоянно, привозя нужные товары куда лучше качеством и намного дешевле, - в результате же Лондон стал восприниматься куда лучше, чем Лиссабон.
А бороться с сэрами, если они куда-то запускали коготок, уже и тогда было сложно. Поймать местного контрабандиста, закатать в тюрьму или на рудники, - вполне. Но наезжать на торговые суда под «Юнион Джек», вполне понимая, что вслед затем придет с претензиями фрегат Royal Navy, дурных не было.
Ну и, как водится, десятки пошлин и налогов. На все, и сверх того. Плюс пеня на неуплату вовремя и пеня на пеню. И официальные должности опять не для местных, их занимали приезжие на короткий срок, подкормиться, чиновники из метрополии, даже белых местных считавшие «вторым сортом», а уж «цветных» и черных за людей не считавшие, что бесило и белых. Ибо (тут самое место отметить) рабство в Бразилии было особое. То есть, раб, конечно, и есть раб,
но реально плоховато неграм было только на сахарном севере, а на всей прочей территории отношение к чернокожим было иное. Мало того, что их считали обычными людьми, только черными, так они еще и стоили очень дорого, поэтому портить ценное имущество было не с руки. К тому же, в городах побережья рабы были «домашние», слуги и подмастерья, по сути, младшие члены семьи, неразумные, но свои. А в глубинах континента,
где «фазендейру» жили по законам Средневековья, воюя между собой за пастбища, за стада, за семейную честь, а то и просто от скуки, раб был не только пастухом или пеоном, но еще и дружинником, как и белая мелочь, - такие же пеоны и пастухи, - что никак не располагало к садизму. С индейцами обращались куда хуже, - а вот чернокожих зачастую даже освобождали, переводя в статус клиента, и обида, нанесенная негру, считалась обидой, нанесенной всему клану и лично «капитану».
Впрочем, это в скобках. А вне скобок набор сложностей семью шкурами не исчерпывался. Суд тоже только через Лиссабон, и притом медлителен до крайности, а о взятках речи нет. Образование под полным контролем церкви, и не приятных, просвещенных иезуитов, а португальской, более чем не поощрявшей любые виды образования, кроме духовного да юридического. Уже ради диплома медика или бергмастера следовало плыть в Европу, - а не у всех хватало эскудо.
В итоге, естественно, пошли ворчалки. Сперва на уровне кухонных разговорчиков или около того. Академии, литературные кружки, научные сообщества, все такое. От общих слов понемногу переходили к темам опасным, остро пахнущим французской болезнью, и в 1789-м, - когда стало известно, что с Бастилией не все в порядке, - в южном Минас-Жераисе случилось. Там в связи с лиссабонскими причудами рудники перестали приносить доход и целые города опустели, в связи с чем, особо продвинутые местные интеллигенты, - писатели, поэты, торговцы, пара военных, пара батюшек,
а всего 34 души, народ, в основном, богатый и досужий, - захотели странного. Сперва всего лишь как-тосовместно написать петицию против налогов, за отмена монополий и свободу торговли, естественно, в рамках верноподданного протеста, потом насчет того, что надо бы свой Университет, но чем дальше, тем больше «инконфидентов» (дословно, неверных, а по сути, диссиду) несло, и в конце концов, договорились до прямого поползновения к посягательству на стабильность:
объявление самостийности (да здравствует Республика), отмену сословий и привилегий, распространение просвещения. Кое-кто из радикалов, вроде главного активиста, кавалерийского прапорщика Жоакима Жозе да Силва Шавьера по прозвищу Тирадентис (Зубодер), поскольку он умел рвать зубы, чем, будучи очень небогат, и подрабатывал, договорились даже до «надо бы и рабов освободить».
Но тут уж основная часть местных либералов, в отличие от Зубодера, рабов имевшая, дала отпор, и сошлись на том, что вполне досточно будет просто облегчить черным жизнь. А когда под нажимом Тирадентиса досужая болтовня начала превращаться в нечто серьезное (появился план восстания и проекты первых законов), несколько заговорщиков, сообразив, во что вляпались, бегом бросились доносить,
и в мае 1789 года всех похватали, а через три года неспешного следствия дюжине «государственных преступников» выписали шпагаты. Однако, понимая с кем дело имеют, зверствовать не стали, вместо казни выслав в Африку, а повесили (и посмертно расчленили) только Тирадентиса, как автора радикальных идеек, - но монополию, сообразив, что перегнули, все же упразднили и налоги ужали, так что, можно сказать, дело его не пропало даром.
И такие настроения ползли по всей колонии, из капитанства в капитанство, с юга на север. В 1798-м в Баие раскрыли «заговор портняжек», хотя там и раскрывать было нечего: диссиденты, распивая кашасу, голосили о своих планах на всю улицу. В отличие от «Inconfidência Mineira», тут все было донельзя опереточно, - гильдия швейников собиралась показать Лиссабону, где раки зимуют, - и наказания, поскольку до умысла на мятеж дойти не успело, в итоге были умеренные. Но болтали о том же, о чем и Тирадентис сотоварищи,
от крамольного «долой налоги и монополии» до преступного «даешь Республику». А кое-кто (в основном, негры-подмастерья, естественно, рабы) настаивал и на отмене рабства, но креолы, естественно, рабовладельцы, не соглашались. И даром, что дальше болтовни не пошло, доболтались до ареста, тюрьмы и высылки: метрополия была достаточно сильна, чтобы выкорчевать слабенькие, еще очень робкие первых протестов. Однако ничего не могла поделать с другим врагом, куда более грозным, - и не далеко за океаном, а совсем рядом…
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НА ДАЛЕКОЙ АМАЗОНКЕ (2)
Да, это Рио-де-Жанейро!
Решение Наполеона удавить Англию блокадой, - «Я не потерплю в Европе ни одного английского посла. Я объявляю войну любой державе, которая не вышлет английских послов в течение двух месяцев!», - означало много проблем для многих, но для Португалии, фишки на доске Большой Игры, вопрос стоял о жизни и смерти в полном смысле слова. Англия в ее политике была всем, и даже больше: главным бизнес-партнером, гарантом неприкосновенности, спонсором и так далее. От воли Лондона зависело, будет ли Португалия иметь колонии, а стало быть, бюджет, или помрет с голоду.
Поэтому, получив 15 октября 1807 года ультиматум, - «Если Португалия не выполнит мои требования, через два месяца дом Браганса не будет править в Европе», - принц-регент Жоао, фактический правитель страны при сошедшей с ума от тоски по покойному мужу маме, королеве Марии, посмел отказать. И… 30 ноября того же года гренадеры генерала Жана Андоша Жюно, сопровождаемые испанскими союзниками, без единого выстрела промаршировав от границы, вошли в Лиссабон,
всего на сутки разминувшись с британской эскадрой, эвакуировавшей португальский флот с безумной королеой, регентом, правительством и несколькими сотнями чиновников всех ведомств. Оказавшись меж двух огней, политикум Португалии сделал выбор: 24 января, без всяких приключений преодолев Атлантику, сиятельные эмигранты прибыли в свои американские владения, а в марте, покумекав, где жить, обосновались в Рио-де-Жанейро.
Естественно, столь судьбоносные события изменили привычный уклад провинциальной жизни до полной неузнаваемости. Метрополия стала оккупированной территорией, колония – центром королевства и резиденцией законных властей, появилась масса благородных домов, привыкших к вполне определенному уровню жизни, - короче говоря, Бразилия стала Европой, и теперь жить по-старому просто не было никакой возможности, и для населения открылись принципиально новые окна возможностей. Ведь если раньше Её Величество, Его Высочество и их вельможи были для заокеанских подданных кем-то вроде небожителей,
то теперь двору и прочим «лучшим людям» волей-неволей приходилось считаться с тем, что они хотя, безусловно, и дома, но при этом все-таки как бы в гостях. К тому же царственные беженцы и прочие понаехавшие привыкли жить хорошо, а чтобы жить хорошо, - то есть, красиво и модно, - продукции местного производства не хватало. Но все можно было купить, и не очень дорого, у Англии, - а правительство ведь не может покупать контрабанду, - и уже в январе 1808 года бразильские порты были открыты для всех желающих, в первую очередь, конечно, для сэров, но и янки были тут как тут.
В общем, осточертевшая эпоха изоляции кончилась. Началась эра свободной экономики, внешней и внутренней. Как положено, учредили Banco do Brasil (автономный филиал Королевского), границы провинций стали прозрачны, начали активно развивать инфраструктуру, деньги на что раньше исчезали не пойми куда. А чтобы совсем, как дома, всего за год (благо, специалистов приехало в избытке) учредили, как в Лиссабоне, национальную библиотеку, национальный музей, ботанический сад, тоже национальный, театр оперы и балета, театр драмы, академия наук, академию изящных искусств, медицинскую школу и при ней госпиталь etc. Включая военное и морское училища.
Разумеется, местные (в соответствии со статусом) были ко всей этой роскоши, о которой раньше могли только мечтать, допущены, и вполне понятно, что это понравилось всем, и в первую очередь, элитам, которые раньше были первыми парнями на селе, а теперь превратились в самый настоящий бомонд. И народу помельче тоже поначалу все пришлось по душе, ибо чем ближе к власти, тем доходы выше, и вообще, перспективы открылись радужные, - но…
Но налоги выросли. Содержать настоящий королевский двор дорогое удовольствие, а чиновничий аппарат, регулярную армию и флот еще дороже, и это не радовало. Центр и раньше-то сосал соки, как долго голодавшая пиявка. Однако тогда центр был где-то за морем, а со своими, на месте, можно было как-то договориться, что-то не оформить, что-то спрятать, и вообще. Теперь же, когда в Бразилию, вместе со всем двором, приехало и умелое налоговое ведомство, жить по принципу «свои люди, сочтемся» стало куда сложнее. А тут еще и союзники… Нет, никто не спорил, что Дом Браганца обязан Лондону решительно всем, да и старые отношение обязывали, -
однако сэры в вопросе благодарности за услуги оказались крайне последовательны. Мало того, что проценты по охотно предоставляемым займам, которые, кроме них, предоставить не мог никто, оказались лютыми, так еще в 1810-м и 1812-м регенту пришлось утвердить договоры о «дружеских» таможенных льготах, установив для британских товаров сбор в 15% от общей стоимости. Не как в Майсуре, конечно, где тариф для британских купцов равнялся 0,5%, но все-таки, на процент меньше, чем для португальских, а для всех остальных ставку поставили в 24%. И плюс к тому, подданные Его Величества Георга IV, как в Майсуре, получили судебный иммунитет. Что обижало.
Впрочем, обижало элиты. Массы иммунитет не раздражал: британские подданные вели себя пристойно, а вот тариф ударил под-дых. Казалось бы, распахнувшая крылья промышленность, получив в итоге конкурента с товарами куда лучше и дешевле, начала задыхаться, словно в гарроте. Ну и, конечно, усугублял назревающее недовольство человеческий фактор. Все сколько-то значительные посты в управлении, все командные должности в армии, вообще, все места заняли понаехавшие, причем, королевские назначенцы, в свою очередь, набирали штат из португальцев.
Практическая логика в этом была: новые реалии требовали людей с высокой квалификацией, с приличным образованием, с опытом государственной службы и службы в регулярных войсках, а «тутэйшие», даже из самой зажиточной интеллигенции, ничем таким, кроме изящных манер и начитанности, похвастаться не могли. Однако даже понимая (а понимать хотели немногие) очень обижались, считая себя незаслуженно обойденными.
Да и португальцы тоже были хороши. О такте они никакого представления не имели, зато имели длинные родословные, которыми кичились открыто и нагло, при каждом удобном и неудобном случае подчеркивали свою «европейскость» и светлокожесть, давая понять креолам, что кем бы креолы себя не считали, на самом деле, с точки зрения истинных сыновей Лузитании, они примерно такие же макаки, как негры, с которым они запанибрата.
Нельзя сказать, что при дворе всего этого не видели и недооценивали. И видели, и оценивали правильно. Принц-регент, дитя брака на уровне инбридинга, к тому же сын матери-шизофренички, человек с серьезными странностями и не без отклонений, был, тем не менее, не глуп, не зол и умел слушать умных людей, поступая, как они советовали. Поэтому меры были приняты. 16 декабря 1815 года дом Жоао подписал указ о переформатировании Королевства Португалия и Алгарви в Объединенное Королевство Бразилии, Португалии и Алгарви, тем самым повысив статус колонии до уровня полноценной части государства, вернее, полноценного королевства под короной Браганца.
А раз королевство, значит, и представительство. Не законодательные кортесы, конечно, - пока в Португалии не все в порядке, об этом и речи не было, там правили, и жестко, в старом добром стиле, наместники, - но что-то вроде местной ассамблеи, где португальцы, естественно, оказались в меньшинстве. Так что, регенту (вернее, уже королю Жоао VI, потому что безумная матушка скончалась в марте 1816) удалось обсудить с польщенными бразильцами налоговые сложности, кое в чем уступить, кое на чем настоять, и в конце концов, найти общий язык. Тем более, что очень кстати появился общий интерес: рядом плохо лежало нечто вкусное.
Ах, как славно мы умрём!
К этому моменту уже всем было ясно, что Испания теряет американские колонии. Война еще длилась, главные битвы еще не прогремели, но тендеция определилась практически везде, в том числе, и в колонии Восточный Берег, - той самой Banda Oriental (или Уругвай), которую в свое время захватили «мамелюки» и Лиссабон даже успел объявить своей провинцией Сакраменту. Потом, правда, испанцы свое забрали, но теперь, когда регулярные войска Бурбонов ушли из Монтевидео на более важные фронты, а ополчение «патриотов» ничего особого из себя не представляло,
в Рио решили, что выдался уникально удобный случай восстановить справедливость, заодно объединив бразильцев и португальцев одной на всех национальной гордостью. И таки сперва получилось. Не сразу, - повозиться пришлось, - но через год, в январе 1817, регулярные португальские войска, как из метрополии, так и набранные и обученные из бразильцев, заняв Уругвай, официально объявили его территорию собственностью Объединенного Королевства, а несколько позже включили в состав Бразилии как Сисплатинскую провинцию.
Однако вскоре выяснилось, что далеко не все так славно, как поначалу думалось. В Монтевидео-то и других городках гарнизоны держали контроль прочно, но вокруг, в неоглядной пампе, гуляли тысячные конные ватаги местных патриотов во главе с Хосе Хервасио Артигасом, ни с португальцами, ни с монархией как таковой ничего общего иметь не желавшие, и вылазки в степь для оккупантов, как правило, кончались очень скверно. Так что, вся сообщение с провинцией – только морем, и никаких переселенцев.
А коль скоро война не закончилась, она продолжалась. Вместо интеграции получилась оккупация, дело хлопотное, муторное и очень недешевое, особенно при вечном дефиците бюджета и выплатах процентов по займам. Казна скудела, добровольцы иссякли, пришлось набирать рекрутов, что никогда никого не радует, и опять же, куда денешься, налоги вновь поползли вверх, - и вновь зазвучали недовольные голоса, особенно на северо-востоке, в «сахарной» провинции Пернамбуку. Там вполне объективное понижение цен на сахар при повышении налогов вызвало кризис
вплоть до кое-где голода, и «улица» злилась, а местные элиты были крайне недовольны тем, что, поскольку двор обитает на юге, все коврижки выпадают южанам. Вполне в соответствии с договоренностями (согласно указу короля, понижение налогов было прямо пропорционально вкладу в бюджет, а вклад Пернамбуку усох), но в таких условиях теория всегда мало кому интересна. Народ волновался на всех уровнях, общим местом стали анекдоты на тему «Рио – новый Лиссабон», - ну и, разумеется, возник заговор. Такая себе «инкофиденсия», как четверть века назад на юге, только, в отличие от «тирадентовщины», совсем не опереточная.
То есть, конечно, многое похоже: те же идеи Просвещения, подогретые примером революции во Франции и Наполеона, тот же увлекательный образец Соединенных Штатов, - но вдобавок еще и победная поступь Боливара сотоварищи по испанским владениям, а плюс ко всему, поскольку Ресифи, столица провинции, считался городом «аристократическим», - с давних времен еще и масса тайных обществ типа масонов, тесно связанных с Европой. Да и условия иные: если у болтливых чудаков из Минас-Жераис было много идеалов и слов, на практике же – ноль,
и никаких связей с народом, то диссиденты из Пернамбуку стояли на земле очень твердо. Домингуш Хосе Мартинш и Антониу Карлуш ди Андрада, богатые и просвещенные, имели деньги, обширные группы поддержки, связи (торговые и личные) за рубежом, - Ресифи торговала со Штатами и Буэнос-Айресом, крупнейшей и самой на тот момент либеральной провинцией будущей Аргентины. На их стороне стояли монахи из влиятельной в провинции «церкви бедных», вроде популярного проповедника Фрея Канека, и офицеры местного гарнизона, оскорбленные тем,
что португальцам лампасы и ордена, а им, коренному населению, разве что эполеты и медали. И кроме того, доверив свои мысли и планы генеральному консулу США, они спустя какое-то время получили из Вашингтона заверения в полной поддержке задуманного республиканского восстания. Такое же письмо пришло от друзей из Буэнос-Айреса. Да и, к тому же, дом Мартинш, учившийся в Лондоне и сохранивший там связи, имел негласное заверение из Сити, что при успехе Альбион возражать не станет. Британия никогда не клала яйца в одну корзину. И…
И может быть, готовясь тщательно, готовились бы еще долго, но толчок событиям дало предательство. Вечером 5 марта 1817 года маркиз Пинто де Мирандо, губернатор, получив подробный донос, отправил патруль на аресты, и когда солдаты явились на собрание республиканцев, Жозе де Баррос Лима, капитан ополчения по прозвищу Король-Лев, застрелил португальского офицера, после чего думать уже стало не о чем. Все пошло очень быстро. На призыв (юг на севере не любили) откликнулся весь Ресифи, военный и штатский, богатый и бедный, даже многие священники, затем вся провинция, затем соседние провинции Сеару, Параибу и Риу-Гранди-ду-Норти.
На верность Республике присягали с восторгом. Быстро сформировали правительство, избрали президента, - падре Жуана Рибейру, фаната Французской Революции, жизнь которого, по его словам, «была лишь одним стремлением к свободе», издали очень либеральный манифест, сильно напоминающий Декларацию Независимости США, известили о событиях Вашингтон, Буэнос-Айрес и прочих. Вот, правда, с рабством вопрос завис: отнимать у самих себя и своих сторонников материальные ценности не посмели, честно заявив: «Патриоты! Ваша собственность, хотя, вероятно, это и противоречит идеалам справедливости, неприкосновенна!», однако все же нашли компромисс и с неграми, освободив готовых вступить в ряды республиканцев, а остальным гарантировав облегчение жизни и право выкупа.
К слову, планы заговорщиков были куда обширнее, чем можно представить. Ходили слухи, что к ним должен прибыть на помощь и возглавить Революцию, распространив ее на всю Бразилию, никто иной, как сам Наполеон Бонапарт. Естественно, слухи эти слухами и остались, однако спустя полтора века аргентинский историк Эмилио Окампо, изучая «революцию в Пернамбуку», обнаружил в британских документах и архиве Карлуша Мария де Альвеар, одного из лидеров Республики, бумаги, доказавшие, что такой замысел имел место. Более того, не выглядел фантастичным:
связь с бонапартистскими кружками в Европе боевые парни из Рефиси поддерживали и план вызволения Корсиканца с острова Святой Елены, а затем объявления его императором Американской Республики был разработан до мелочей. Иное дело, что не срослось: на все про все сеньора История отвела Революции в Пернамбуку всего два месяца. В Штатах, притом что консул официально признал Республику, решили, не ловя журавля, заняться испанской Флоридой, в Буэнос-Айресе возникли свои проблемы, а сэры и не обещали помочь, они обещали только признать в случае успеха.
Успеха же не получилось: королевское правительство, действуя с изумительной энергией, мобилизовало все, что могло, отозвав войска даже из Уругвая, и 20 мая, после месяца боев и двухнедельной обороны столицы, видя, что поддержки не будет, республиканцы, блокированные с моря и с суши, оставили Ресифи. Впереди отступающих, босиком, шел их президент, а по пятам уходящих шли каратели графа дос Аркоса. Через месяц сопротивление было подавлено во всем Пернамбуку, а затем пошли расстрелы и виселицы, с посмертным расчленением или без. Голову покончившего с собой падре Рибейру, надев на пику, носили по улицам Пернамбуко Кто-то из лидеров спасся, кто-кто сгинул, но большая часть погибла на эшафоте, активистов тысячами ссылали на африканскую каторгу, а в целом аресты суды и казни затянулись на три года.
Раздавив Республику, власть упрочила себя. «Мятежный» севере напичкали войсками, фактически введя военный режим, «надежному» югу дали некоторые льготы, - и тем не менее, все, от короля до сторонних наблюдателей, понимали: звоночек нехорош. «Важность мятежа в Пернамбуку, – писал в Петербург Антон Балк-Полен, русский посланник при королевском дворе, – заключается в том, что пущены корни недовольства. Зародился дух, подобный тому, который царит в испанских колониях. Политическая ситуация в Бразилии изменилась. Встал вопрос о торговле неграми и приобщении их к цивилизации», и было ясно, что рано или поздно, в том или ином виде нечто подобное повторится, потому что двойственность «бразильско-португальского» вопроса стала злокачественной.
Правда, ситуация в Португалии понемногу успокаивалась, на повестку дня уже вставал вопрос о возращении королевского двора в Лиссабон, созыве кортесов и решении всех наболевших вопросов, и это смягчало напряженность. Однако Жоао VI нравилось в Бразилии и совершенно не хотелось предпринимать какие-то решительные действия. Ему и так было неплохо. И надежды бы оставались надеждами, - но в августе 1820 года началась революция в Португалии. Вполне буржуазная и очень либеральная, ни в малейшей степени не против монархии, а против затягивания «чрезвычайными инспекторами» (наместниками) давно назревших и перезревших реформ, которых требовало все общество. В Лиссабоне наконец-то собрались полноправные кортесы,
принявшие в январе 1821 года очень либеральную Конституцию, поставившую точку на феодализме, и от имени португальского народа ультимативно потребовавшие возвращения короля. Король, правда, не хотел, - какое-то время при дворе обсуждалась даже идея англо-бразильского похода на Португалию, но англичане не горели желанием, а сын короля, принц Педру, молодой и довольно либеральный, убеждал отца не делать глупости, поскольку половина страны уже аплодировала событиям в Лиссабоне. Деваться было некуда: 26 апреля 1821 г. Жоао VI отбыл в Европу, пообещав, что Конституция у Бразилии обязательно будет и оставив регентом Королевства принца Педру, а бразильцев в ожидании новостей из Европы. Всех интересовало, что ждет Бразилию теперь, когда у Объединенного Королевства есть замечательная конституция…
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НА ДАЛЕКОЙ АМАЗОНКЕ (3)
Множество писем в личке, множество ссылок открыто, а я пока ничего и не прочитал, потому что весь день в Бразилии аж позапрошлого века. И очень продуктивно: довел до ума аж две главы - третью, которую выкладываю, и четвертую, которую выложу через часок. А потом попытаюсь разобраться с текучкой. Но, честно, через силу, ибо скучно. Куда скучнее, чем в Бразилии периода Империи, с ее людьми, которые давно ушли, но куда более живы, чем серенькие герои нашего тусклого времени...
Дом Педру, такой мужчина…
Первые оттиски первой Настоящей Конституции в Бразилии оказались достаточно быстро, и вызвали шок. Ибо никаких упоминаний о статусе Бразилии в составе Объединенного Королевства не содержалось. Вообще. И в присланных позднее «Пояснениях» тоже. Из чего общество сделало логичный вывод: нас опять хотят сделать дойной коровой, из вывода же еще один вывод: а не будет такого! - и это объединило всех. Фазендейру и их пеонов, купцов и босяков, промышленников и работяг, ремесленников и коробейников,
короче говоря, всех свободных и даже некоторых особо продвинутых рабов. Вопрос о независимости встал на повестку дня явочным порядком, как нечто, само собой разумеющееся, обсуждались только детали: уния с Португалией или свободный полет, и если полет, - то монархия или республика, а если монархия, кого приглашать. В целом, склонялись к тому, что без монарха как-то несерьезно. Только в Пернамбуку, где 17-й год еще был свеж в памяти, да в вечно вольнодумном горняцком Минас-Жераисе в относительной силе были республиканцы.
Единого центра не было, объединяться было не вокруг чего, немногие национальные газеты особого влияния не имели, так что, спорили жестко, до эксцессов и отказов подчиняться короне, но с этим справлялись. В Баие, например, когда местный «камара», - городской совет, - заикнулся, что мы, мол, сами по себе, португальский гарнизон, - самый сильный в Бразилии, - силой принудил северян присягнуть Лиссабону. Тем не менее, ясно было, что это до поры, до времени: португальских солдат хватало, чтобы контролировать города,
но удержать общую волну они были не в состоянии, а присылать подкрепления Лиссабон не мог. А стало быть, страх не служил сдерживающим фактором. И куда-то в сторону отошел вопрос о рабстве. Насчет отмены не говорил никто, даже самые яростные «якобинцы» соглашались с тем, что это вопрос отдаленного будущего, ничтожный на фоне основной темы текущего момента, - а это дополнительно сплачивало общество, избавляя фазендейру от волнения насчет «боливарианских» вариантов.
В принципе, в плохое верить не хотели, хотели верить в хорошее. Всерьез обсуждали и редактировали петиции с требованиями внести поправки в Конституцию, шлифовали формулировки, привлекали лучших юристов, упирая на то, что, в конце концов, согласно указу короля, Бразилия – точно такая же равноправная составная Объединенного Королевства, как и Португалия, - но Лиссабону все эти заокеанские шевеления были до лампочки. Проблемы туземцев сеньоров депутатов не волновали, их волновало, что в стране после двух десятков военных лет царит разруха, а взять денег, кроме как с Бразилии, неоткуда, -
в связи с чем, 9 декабря 1821 года в Рио приплыли два декрета. Единая Бразилия упразднялась, каждая провинция отныне подчинялась непосредственно Лиссабону, а регенту предписывали немедленно вернуться домой. Реакция общественности, всех цветов, статусов и дислокаций, полагаю, понятна, - и в этой ситуации особое значение приобрели личность и позиция дома Педру, которого сейчас самое время представить широкой публике, ибо, при всем уважении к объективным процессам, роль личности в истории никто не отменял.
Итак, Дом Педру ди Алкантара Франсишку Антониу Жуан Карлуш Шавьер де Паула Мигел Рафаэл Жоаким Жозе Гонзага Пашкуал Киприану Серафим де Браганса и Бурбон, а короче Педру. 23 года, то есть, молодой, но по меркам времени зрелый. От вялого, с признаками вырождения папы отличается, как яблоко от унитаза. Ярок, умен, упрям. Очень волевой. Образован, даже слегка либерален, но исключительно в плане прав человека: политически – абсолютный монархист. До мозга костей португальский аристократ, но при этом, привезенный в Рио ребенком, и бразилец; в отличие от отца, страну и ее людей более или менее понимает. Невероятно властолюбив, -
и прекрасно сознает, что если уедет, Бразилию можно считать потерянной, и хотя отец, уезжая, сказал ему: «Береги Бразилию для Португалии, а если будет невозможно, бери себе», ставит своей целью и Бразилию сохранить, и Португалию не потерять. Ибо, если уж на то пошло, корона Браганца от него, законного наследника, никуда не денется, - а вот Бразилия вполне может уйти в побег. К тому же, пока батюшка жив, сам он в Лиссабоне с боку припеку, а тут, в Рио, уже регент, и это не предел. Если, конечно, правильно вести игру, используя глупые ошибки кортесов. Поэтому почти месяц молчал, никак не реагируя на требования высказаться, -
9 же января 1822 года, когда настроения дошли до синего звона и делегация властей Рио в сопровождении огромной толпы, явившись во дворец, потребовала ясного «да или нет», отчеканил: «Я остаюсь!». Тем самым сняв вопрос о будущей форме устройства с повестки дня, чему были рады все, и «низы», потому что к монархии привыкли, и «верхи», потому что при монархии все ясно и понятно, а как там еще будет при республике? А заодно (но до высот такого понимания наивные бразильцы еще не доросли) послав мессадж лиссабонским роялистам: дескать, держитесь, компаньейруш, для меня все эти кортесы – не власть.
День спустя, 11 января, позиции Педру, и без того вмиг ставшего самым популярным политиком Бразилии, укрепились еще сильнее. По приказу командиров, назначенных кортесами, португальский гарнизон вышел из казарм, чтобы заставить городские власти вести себя прилично, - однако наткнулись на многократно превосходящих числом и очень злых milicianos. При пушках. Но главное, при Его Высочестве собственной персоной: картинно опираясь на лафет левой рукой и держа правой тлеющий фитиль, Дом Педру «честью Дома Браганца» поклялся стрелять по португальцам, если посмеют посягать на «волю народа Бразилии».
Естественно, совершенно обескураженные португальские офицеры, в душе роялисты, увели батальоны с улиц, пообещав регенту отбыть в метрополию, как только возникнет возможность, а вслед за тем разъяснение ситуации гарнизонам прокатилось по всей стране. Причем, в случаях, когда можно было поспеть, принц участвовал в событиях, наращивая авторитет, как лично свой, так и будущей монархии, и всего за несколько дней стал «любимцем общества и надеждой патриотов».
Оседлав волну, регент и далее действовал четко. С одной стороны, издал несколько прокламаций, растолковывающих электорату, что рвать исторические связи с Португалией, как минимум, неразумно, и электорат принял мысль к сведению. С другой, отправив в отставку португальцев, оставленных папой, 16 января поручил формировать правительство Жозе Бонифасиу де Андрада-и-Сильва, очень популярному местному политику, чистой воды «просвещенцу», крупнейшему, чтимому в Европе ученому, но (все же очень богатый фазендейру, вельможа, дипломат) без малейших уклонов в якобинство. Идеал: независимость, ограниченная монархия и (желательно, но не обязательно) уния с Португалией.
Разумеется, получив первое в истории «чисто бразильское» правительство, общественность взвыла от восторга, а новый кабинет, не откладывая на завтра то, что нужно было делать вчера, 21 января принял постановление, объявляющее приоритет местных законов над португальскими. Параллельно взял под арест самых заметных роялистов, а португальским войска приказали покинуть страну в течение 21 дня, что в феврале и было исполнено (несколько подразделений, отказавшихся подчиняться «изменникам», остались только на крайнем севере)
Власть и её ветви
С этого момента события понеслись очень быстро, по «принципу домино». В феврале, собрав уважаемых людей, Дом Педру поручил им разработать проект конституции, «дабы всем показать, что мы – Европа». 13 мая в Рио съехались уполномоченные провинций, постановившие дополнить титул регента титулом «конституционного и постоянного защитника Бразилии», тем самым (ибо постоянным) зафиксировав, что статус Педру никак не зависит от хотелок Лиссабона.
Также решено было созвать Учредительное собрание, которое и собралось в июне, намереваясь дискутировать, однако регент сделал дискуссии излишними, уже во вступительном слове заявив: «Независимость или смерть!», - и все это, естественно, не нравилось лиссабонским. Будь там у власти вменяемые политики, все еще можно было исправить, но вырвавшиеся к рулю буржуа еще не умели действовать аккуратно: 6 июля все предложения требования бразильских депутатов депутатов были отвергнуты, определены как «государственная измена»,
и кортесы приняли решение готовить карательную экспедицию. С понятным эхом в Рио, где к лозунгу принца, - «Независимость или смерть!», - присоединились даже те, кто полагал лучшим вариантов унию. Тут, наконец, в Лиссабоне нашелся кто-то умный, сообразивший, что без компромисса будет совсем плохо, условия компромисса оказались такими, что лучше бы их не было: принцу разрешалось остаться в Бразилии еще на год, но взамен требовали отдать под суд и осудить за измену бразильских министров и актив протеста.
Терпеть подобное означало бы себя не уважать, а патриоты и лично Бонифасиу себя уважали. Ответом на «компромисс» стала декларация о полном разрыве имеющихся связей с Португалией при оговорке, что если Лиссабон хочет унии, «об этом надлежит говорить со взаимным уважением». Принц, подумав и посоветовавшись с британским посланником, 7 сентября утвердил решение кабинета (этот день считается Днем Независимости Бразилии). Однако в Лиссабоне опять ничего не поняли. 19 сентября кортесы приняли очередной декрет, отменяющий «компромисс»: бразильское правительство распустить, министров арестовать и прислать в Лиссабон на суд, а принцу – 4 месяца на сборы, и домой. Или тоже под суд. Ну и, по Гоголю, тэрпець урвався:
как только текст декрета дошел до Рио, 12 октября, национальное собрание официально провозгласило регента «конституционным императором» Бразилии под именем Педру I. Причем в самом титуле содержалась острая шпилька в зад Лиссабону: корона вручалась не королевская, по праву принадлежности к Дому Браганца, а именно императорская, как лидеру борьбы за независимость. Правда, в тайном письме отцу, переданном через англичан в строгом секрете от собственных министров, молодой император писал, что «принял дерзновенный титул только лишь затем, чтобы сохранить Бразилию для Португалии»,
и тем не менее, как отмечают свидетели, «в эти дни летал, словно имел крылья». Настолько, кстати, летал, что впервые позволил себе показать клычки, дав сеньору Бонифасиу понять, что марионеткой не будет. Очень вежливо и почти случайно: просто в ответ на что-то безобидное типа «Вы еще молоды, государь, и я настаиваю…» прозвучало что-то вроде «Не давайте мне советов, дом Андрес, и я не скажу вам, куда идти», а когда оскорбленный старик заявил «Я устал, я ухожу», император, выразив благодарность за прекрасную работу, пожелал главному министру успехов в научных штудиях.
Впрочем, эта сшибка характеров надолго не затянулось. Уже через пять дней, 25 октября, общественность хором, - «Ребята, давайте жить дружно!», - помирила лидеров, и Бонифасиу продолжил взятый курс . 11 декабря конфисковали всю собственность у лоялистов, чуть позже таможенные тарифы на товары из бывшей метрополии (16%) подняли в полтора раза, как для всех, кроме Англии, постановив, что подданные Португалии могут сходить на бразильский берег только присягнув, что признают независимость Бразилии.
Одновременно объявили стратегическим союзником Лондон и начали строить военный флот на случай вторжения, пригласив знаменитого адмирала Кокрэйна на пост «первого адмирала Бразилии». Сэр Томас, правда, пребывал на действительной службе, но ради такого случая он (о, разумеется, только по собственной инициативе, ни с кем не согласуя, - ведь официальный Лондон не мог обижать старого пиренейского клиента!) ушел в длительный отпуск за свой счет. И первым делом, возглавив эскадру, поплыл на север, помогать сухопутным войскам под Баией объяснять положение частям генерала Мадейры, последним вооруженным португальцам на земле Бразилии. Генерал, отдадим ему должное, оказался понятливым: все обошлось взаимно вежливо, и 1 июля 1823 домы, не присягнувшие Империи, погрузившись на суда, покинули страну.
А между тем, 3 мая 1823 открылось, наконец, Учредительное собрание, и сразу же обозначился конфликт интересов. Делегаты с мест приехали, чтобы стать властью, у императора было иное мнение, сеньор Бонифасиу склонялся, конечно, на сторону «народных представителей», в связи с чем, 17 июля ушел в отставку, объявил себя лидером оппозиции и полностью сосредоточился над подготовкой проекта конституции. Каковой был представлен в сентябре, получил название «проект трех Андрада» (бывшего премьера, его брата Антониу, ветерана 1817 года, и еще одного брата, Мартина, тоже видного либерала), и монархия в этом варианте предусматривалась, скажем так, ну очень конституционная.
Если вкратце, то. Всем свободным – основные гражданские права, но об этом вкратце, мельком, чуть ли не на уровне декларации. Зато «государственные» статьи проработаны детально. Законодательная власть у парламента, правительство ответственно перед депутатами, судьи несменяемы, провинции автономны (местные правительства избираются населением), а император если и не для красоты, то, без права «вето» и роспуска палаты, близко к тому. Ну и, в качестве благого пожелания, статьи о необходимости приобщения индейцев к «свету знаний» и желательности отмены рабства «по мере возможности».
Проект был зачитан, заслушан, очень понравился («за» проголосовало 80% депутатов), после чего представители Собрания явились к императору с «почтительной просьбой осчастливить верный ему народ» утвердив документ, - поскольку принят абсолютным большинством, - в соответствии с предварительными обещаниями, без обсуждений и поправок. Однако дом Педру категорически отказался…
Чуть в сторону. Как правило, отказ этот объясняют если не «властолюбием», то «взбалмошностью» молодого монарха, иногда же и тем, и другим вместе, а то и вовсе «стремлением вернуть Бразилию в колониальное состояние». Историки же советской школы, натурально, трактуют как «стремление подавить прогрессивные тенденции в обществе и установить абсолютизм».
Однако не все так просто. Безусловно, дом Педру, несмотря на молодость, был «человеком старого образца», запредельно властолюбивым и не одобрявшим всякие вольности, и ограничивать свою власть не собирался. Но, вместе с тем, помимо личных мотивов, имелись и вполне «государственные» соображения. Дело в том, что структура бразильского общества была крайне своеобразна. Примерно в половине провинций и старых портовых городах вся власть принадлежала либо фазендейру, либо тесно с ними связанным гильдиям оптовиков. От них зависели все, - трудяги, духовенство, интеллигенция, - так или иначе принадлежавшие к одной из провинциальных «фамилий».
Понятно, что «отцы» этих «фамилий» формировали местные «камара», и закрепить такое «народное представительство» Конституцией, отдав на откуп парламенту еще и кадровые вопросы, означало свести власть центра почти к нулю. Больше того, учитывая серьезные местные и межрегиональные противоречия плюс ориентацию севера на Штаты, а юга на Англию, поощрять сепаратизм. А дом Педру видел свою задачу в том, чтобы максимально укрепить только-только формирующуюся государственность, хотя, конечно, личные амбиции тоже играли немалую роль.
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НА ДАЛЕКОЙ АМАЗОНКЕ (4)
Управляемая демократия
Ситуация зависла. Страна оказалась в ситуации «без закона», временно используя португальское законодательство, но такое «временное» положение не могло длиться вечно, тем паче, что британские друзья поторапливали. При этом Собрание, имея корни на местах, могло позволить себе тянуть время, между делом мутя народ, а вот император, - Лиссабоном не признанный, и значит, с точки зрения международного права пока еще самопровозглашенный, то есть, почти мятежник, - не мог.
Столкновения ветвей власти было неизбежным, и окружение Педру, как бы стоявшего выше таких мелочей, начало готовить «экстралегальные меры», делая ставку на юг, связанный с англичанами тесными связями, и центр, с севером традиционно не друживший. Но, в основном, на офицерский корпус, во многом португальского происхождения, естественно, ориентировавшийся на императора, как главнокомандующего, а также и как на принца из Дома Браганца, которому г-да офицеры присягали. По ходу, в армию были приглашены португальские солдаты и офицеры, взятые в плен во время боев у Баии и ожидавшие депортации, - и многие согласились, ибо в Бразилии им нравилось, а жалованье предлагали достойное.
В общем, градус поднимался. Оппозиционные газетчики вовсю клеймили «окружение известного лица, стремящееся подавить свободу», аккуратно не называя ни имен, ни самого лица, но прозрачно намекая на «происки португальцев» и «руку Лиссабона». Официозные журналисты гнали лавину частных расследований о самоуправстве региональных князьков и коррупции в провинциальных «камара», открыто заявляя, что виной всему «рука Лиссабона» и «происки португальцев», а по Рио бродили ватаги солдат, ставивших по стойке «смирно» всех, кто был чисто одет и при этом плохо говорил об императоре и Португалии.
Что-то не могло не случиться, и в начале октября случилось: группа вояк, встретив на улице безобидного провизора Давида Памплону, избила его чуть ли не насмерть, - на что никто бы не обратил внимания, не выяснись, что били беднягу потому, что перепутали его с редактором «Sentinela», главного рупора законодательной ветви. Естественно, после такого конфликт набрал обороты: депутаты потребовали очистить армию от «лиц, ведущих себя столь вызывающим образом», командование заявило, что «бывает, ошиблись, уже наказаны», ответ «не сочли удовлетворительным», командование не снизошло до дальнейшей беседы, дав понять г-дам депутатам, что они – говно, -
и в конце концов, 11 ноября, когда в столице появились невесть откуда взявшиеся войска, Собрание постановило заседать без перерыва, пока не будет найдет вменяемый выход из конфронтации с исполнительной властью. А поскольку Дом Педру ни на какие продуктивные предложения не соглашался, вариантов оставалось не много: звать на помощь либо население Рио (но город был, скорее, за императора, героизм которого помнили), либо провинции.
Однако на это уже не оставалось времени: в течение всей noite de agonia («ночи агонии», как позже это назвали) к зданию Учредительного собрания стягивались войска, всех впуская и никого не выпуская. А ровно в час дня 12 ноября депутатам зачитали указ о роспуске. После чего несколько десятков самых активных, включая братьев Бонифасиу де Андрада, взяли под арест и через пару дней выслали в Европу, а император назначил Особую комиссию из десяти наиболее видных юристов для «подготовки основного закона страны в скорейший срок».
Задача была не сказать, что сложна. Если «народный вариант» готовили, тщательно обсуждая каждую статью с избирателями (фазендейру, гильдиями и так далее), то вариант № 2 клепали быстро, по образцу самых прогрессивных на тот момент конституций – французской 1814 года и совсем свеженькой португальской, - так что в части прав и свобод личности она оказалась куда либеральнее «народного» проекта. Права человека были не просто упомянуты, как у братьев Андраде, но перечислены с точным указанием механизма гарантий и особым упором на свободу слова и печати. Права собственности тоже, до мельчайших деталей, с механизмами четкого соблюдения. И о веротерпимости – не мутно, понимай, как хочешь, а предельно конкретно, причем о «власти от Бога» ни слова. Против этого ничего не мог бы возразить сам Руссо, все на высшем уровне, как в Штатах.
А вот с принципами государственного устройства – дело другое. Единственным источником и центром власти становился император, по всем трем ветвям. Его декреты и инструкции имели силу закона, он мог объявлять войну и заключать мир, подписывать договоры с иностранными державами, лично ратифицировать и расторгать их, предоставлять гражданство и лишать его. Его и только его прерогативой объявлялось утверждение всех кадров, от министров до мелюзги, офицеров армии и флота, а также епископов. Плюс право назначения судей
и «надзора за справедливостью их решений». И сверх того, - новация, в Европе неизвестная, - император обретал статус Poder Moderador, главы четвертой, «сдерживающей» ветви власти, то есть, стоящего над Конституцией «верховного арбитра», полномочного во имя «независимости, гармонии и равновесия» при необходимости нарушать самоё Конституцию. органов политической власти, созданных самой конституцией.
А что же парламент? Не, парламент тоже был прописан. Без парламента никак, чай, не Средние века. Черным по белому: Генеральное собрание Бразилии – «выразитель воли бразильского народа». Две палаты. Сенат назначается императором, но по представлению провинций, а если монарху не нравится кандидатура, провинции вправе представлять другие, пока монарх не скажет «да». Статус сенатора – пожизненный, но монарх вправе уволить. Выдвигать законопроект Сенат не может, но без его утверждения решения Палаты депутатов законами не станут. Если, конечно, монарх не утвердит.
Сами же депутаты имеют право предлагать законопроекты, одобренные канцелярией монарха, избираются же по самому прогрессивному в мире образцу США, в два тура, сперва выборщики, потом, уже из их числа, – сами народные представители. А в провинциальные «камара» выборы вообще демократичней некуда, в один тур, - но без права, как было испокон веков, избирать президентов провинций, которых отныне назначает лично монарх.
И знаете, - возможно, кого-то это удивит, но такие новости не всем пришлись по нраву. Особенно когда, - еще до утверждения, сразу после опубликования проекта, - в провинции поехали назначенцы из Рио. На всякий случай (мало ли что, кто их там знает, этих губернских макбетов?) в сопровождении сильных военных отрядов, сформированных даже не из бразильцев, а из наемников, набранных в Европе – немцев, ирландцев, швейцарцев, а то и (что особо раздражало) португальцев.
Они вели себя тихо, дисциплинированно (немцы же), однако в их присутствии фазендейру со всеми их десятками «пистольейрос» и сотнями клиентов начинали чувствовать себя не совсем комфортно. Потому что теперь получалось, что чиновник из Рио качает права, собирает жалобы, лезет с ревизиями, а ты его уже даже не пни, не говоря про, как в старые добрые времена, пристрелить. Ворчали и гильдии, не дождавшиеся отмены разорительного торгового договора с Англией, - особенно, северные, мечтавшие о таком же, но с США.
Ну и, думаю, совершенно понятно, что вся эта вопиющая несправедливость подогревала в политикумах северных провинций почти, казалось бы, забытые республиканские идеалы, вновь сближая их с никогда о республиканских идеалах не забывавшим северным электоратом. В первую очередь, конечно, в Пернамбуку, «вотчине» клана Андраде, где кровавый 17-й помнили, не простили, и уцелевшие вожди утопленной в крови Революции призывали к мщению.
Север против Юга
Там и грянуло. Прибытие в декабре 1823 года, - еще до официального принятия конституции, - императорского назначенца-южанина, к тому же еще участника экспедиции графа Де Аркоса, на пост президента провинции вместо избранного и всеми уважаемого, стало искрой, брошенной в порох. Камара Ресифи отказалась подчиняться воле Рио, варяга выгнали, утвержденное властями правительство сместили и назначили новое, из «своих», 8 января 1824 года избрав президентом Мануэла Карвалью, одного из мелких лидеров недавней революции. Сумев после разгрома как-то спастись, он, заочно приговоренный к смерти, сбежал в США, где обзавелся очень солидными связями, а затем тайно вернулся в родные края, - и он, судя по всему, был, скорее, радикальным автономистом, нежели сторонником полного отделения.
Однако в Рио на его письма с предложениями (дескать, верните «народную конституцию», и все будет хорошо) никто не реагировал, - напротив, пришла информация, что император, взяв займ у Лондона, набирает дополнительных наемников в Европе. А тем временем «улица», разогреваемая уцелевшими «людьми 17 года», красноречивым монахом Фрей Канеку и не менее красноречивым падре Мороро, лицами хоть и духовного звания, но крайними радикалами, требовала Республики, и в конце концов, «лучшие люди» Пернамбуку пришли к выводу, что пора сказать «b». 2 июля сеньор Карвалью объявил, а «камара» утвердила отделение от Империи и учреждение Конфедерации Экватора, - союза равноправных северных республик по типу США, пригласив «шесть провинций Севера» вливаться в состав.
Призыв услышали. Все соседи, - кроме Баии, извечного соперника Ресифи, - официально подтвердили согласие, прислали делегации, и Конфедерация стала фактом, но вот время было упущено безнадежно. Если «лучшие люди» севера исходили из того, что молодой император, еще не очень прочно держащий власть, обострять не станет, а стало быть, можно торговаться, то дом Педру полагал иначе: по его мнению, нарыва нужно было вскрывать раз и навсегда. Пока на севере говорили, на юг прибывали солдаты удачи из Старого Света, а в первых числах августа на север морем и сушей двинулись каратели под общим руководством адмирала Кокрэйна, - и оказалось, что северяне, много говоря о борьбе не на жизнь, а на смерть, совершенно не занимались делом. Даже на дилетантском уровне 1817 года.
В итоге, - даром, что Республиканскую Гвардию поддержало все население Ресифи и окрестностей, - утром 17 сентября город пал. «Лучшие люди», явившись к сэру Томасу под белым флагом, подписали капитуляцию в обмен на слово чести, что казнить не будут (слово джентльмена адмирал сдержал, местную знать наказали относительно мягко). Лично же Мануэл Карвалью на фрегате «Твид» уплыл в Лондон, где прожил шесть лет, а потом, вернувшись, сделал блистательную карьеру, с 1831 по 1855 занимая пост сенатора Бразильской империи. Что, к слову сказать,
дало пищу злым языкам судачить о «британской интриге»: дескать, сэры, которым нужна была вся Бразилия, специально все так организовали, чтобы Рио одним ударом подрубил под корень северный сепаратизм. Так ли, не знаю, - прямых подтверждений нет, - однако имя сеньора Карвалью нынешние бразильские историки поминают с осторожностью, а Пернамбуку, в наказание за рецидив обрезанный на треть в пользу верной Баии, с тех пор стал гораздо спокойнее.
Впрочем, это потом, - а падение Ресифи не стало финишем. В отличие от «дворцов», свои дела уладивших, «улица» имела свое понимание Республики и капитулировать отказалась. Не сложившие оружие «стойкие» республиканцы, ведомые «восторженными» радикалами, - Фреем Канеку, падре Мороро, Соарес Лисбоа Ратклифом, - огромной колонной, с женщинами и детьми, отошли в городок Гоиану, объявленный новой столицей Конфедерации, и там соединились с большим отрядом республиканцев из соседней провинции Параиба.
Это было уже что-то. Три тысячи штыков, названных Конституционной дивизии Конфедерации Экватора, успешно отбиваясь от преследователей, двинулись в провинцию Сеара, куда каратели еще не добрались, рассчитывая нарастить силы, - но ошиблись. «Лучшие люди» Сеары, здраво обсудив ситуацию, решили со «стойкими» не связываться, а довериться слову джентльмена. Поэтому 18 октября Форталезу, столицу провинции, сдали южанам, сняв «пистольейрос» с позиций, а республиканские части во главе с Тристаном Арарипе, прорвавшиеся и ушедшие на соединение с Конституционной дивизией, 31 октября были настигнуты и разбиты в большом полевом сражении. Не помогло и запоздалое восстание в Баие: республиканцам удалось взять под контроль город Сан-Сальвадор, но продержались они чуть больше недели.
Все было кончено. Вероятно, еще можно было что-то переиграть, объявив отмену рабства, - но и это было уже поздно. Пока были в Ресифи, скорее всего, сработало бы, но в сертанах, - заросших кустарником пустошах без конца и края, через которые шли уже непонятно куда республиканцы, - плантаций не было, стало быть, не было и кого освобождать. А каратели шли по пятам, ежедневно навязывая стычки, еда иссякла, боеприпасы тоже, и 22 ноября Конституционная дивизия, вымотанная до предела, голодная и оборванная, сдалась имперским войскам, выговорив только пощаду женщинам и еще живым детям.
Слово джентльмена вновь сработало: ни одну женщину, ни одного ребенка не обидели, наоборот, накормили и отпустили, а вот мужчинам пришлось хуже: «стойкие» в понимании сэра Кокрэйна не были «приличными людьми», следовательно, щадить их в его планы не входило, так что, суды были формальностью - вешали и расстреливали через одного. Однако, - думаю, стоит отметить, - повесить главных лидеров, Фрей Канеки и падре Мороро, несмотря на выписанный приговор, не удалось. Не нашлось палача. Официальных исполнителей в Бразилии не водилось,
а инициативника не сыскали ни среди уголовников, в обмен на полное помилование, ни среди солдат, даже португальских: служивые твердо стояли на том, что «Вешают преступников, а это святые», а когда вешать вызвался некий наемник из немцев, возникла угроза мятежа. Так что, в конце концов, пришлось таки расстрелять. С почетом, не из ружей, но из старинных аркебуз, как генералов, причем оба, и фрей, и падре, сами руководили процессом, подбадривая смущенных солдат шуточками и прибауточками. Впрочем, все это, безусловно, и героично, и красиво, и в легенды вошло, - но, как бы там ни было, Дом Педру I свой куш в Большой Игре сорвал.
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НА ДАЛЕКОЙ АМАЗОНКЕ (5)
Государство - это я!
Как ни странно, разгон «народного» парламента и «антинародную» конституцию общество в целом восприняло очень спокойно. Всерьез возмущались лишь несколько сотен семейств, до самостийности - элита элит колонии. Тут, к слову, следует иметь в виду, что социальная структура колониальной эпохи была весьма своеобычна: в основе взаимоотношений по горизонтали и вертикали лежали т. н. cordas («веревки»). Если по-русски, система взаимных одолжений и обязательств.
Каждый от кого-то зависел и от каждого зависел кто-то, причем, к удивлению португальцев, понятие «взятка» практически отсутствовало. Были подарки, презенты, скромные подношения в знак уважения, - но все это не играло особой роли. В отличие от связей, дружб, побратимств, своячеств etc. В одиночку человек просто не выжил бы, - а концы «веревок» держали в руках фазендейру и главы старых гильдий, - которые после принятия конституции 1824 года остались в обиде, вплоть до появления местно-республиканских, по сути, сепаратистских настроений.
Однако молодого императора это не особо тревожило. Он достаточно хорошо понимал суть времени, и он видел, что в Бразилии нарождаются новые силы, тяготящиеся жесткостью «веревок». Эти силы, по крайней мере, на первых порах, нуждались в твердой руке и высшем арбитре, и он намеревался опираться на них. А чтобы прояснить до конца, вернемся к вопросу о роли личности. Ибо, - повторюсь, - при том, что никто не в силах развернуть ход Истории, в жестко вертикальном обществе, увязанном на персоналии, тем паче, в «периоды турбулентности», от личности зависит очень многое.
Итак: Педру был «папин». Мать, - жесткая, волевая, крайне консервативная, - старшего сына почему-то недолюбливала, всячески балуя младшего, Мигела. А вот с отцом, мягким, слегка дебильным, первенец был очень близок. Но у отца вечно не хватало времени, и в детстве, а потом и в юности наследник, за которым особого присмотра не было, много времени (конечно, инкогнито) проводил на улицах, общаясь с простыми людьми. Ему и позже с простым было куда комфортнее.
А кроме того, очень хорошо образованный, читал умные книги, размышлял, пытаясь понять, как так вышло, что они живут не в Европе, а в Америке, - и к 20 годам стал абсолютным либералом. Но - полностью убежденным в том, что «пока народ не просвещен, всегда найдутся желающие узурпировать свободу». То есть, исходил из необходимости строжайшего контроля власти над переживающим переломную эпоху обществом, - чтобы, не дай Бог, не получилось, как в Париже. Ибо, - это он тоже осознавал, - всякие «республики» и «вето» суть прямая дорога к олигархии, в связи с чем, намеревался править железной рукой, пока в Бразилии не окрепнет настоящее,
хотя бы на уровне португальского, «третье сословие», первым ласточкам которого он оказывал всевозможное покровительство. «Новые люди», - промышленники, финансисты, купцы из масонской ложи «Коммерции и искусств» (старые аристократы тусовались в радикально республиканском «Великом Востоке»), его поддерживали, тем паче, что именно его вариант Конституции (в смысле прав человека сверхлиберальный) обеспечивал им защиту от диктата «веревок». Да и «улица», - в том числе, что всегда важно, столичная, - тоже была за.
При таком раскладе, реши «лучшие люди» воспротивиться установлению «конституционного абсолютизма» крайними средствами, у императора, тем паче, располагающего преданной португальско-европейской армией, были все шансы на победу. Однако «лучшие», - фазендейру и руководство гильдий, - ворча и бурча, решили не обострять. Они отдавали себе отчет в том, что монархия есть главная скрепа еще не сформировавшегося государства, и хорошо понимали, что если Империи не станет, более чем вероятен распад страны на независимые государства
с неизбежными междоусобными войнами и разрухой (как в испанских колониях). А главное, - этот тоже учитывалось, как сильнейший аргумент в пользу «поживем – увидим», - в неизбежном хаосе распада резко возрастала вероятность рабских восстаний, чего традиционны элиты Бразилии, очень хорошо зная о событиях в Санто-Доминго, очень боялись. Ну и, в конце концов, решили ждать. Ибо, коль скоро император взял на себя ответственность за все, что ж, пусть попробует. Справится, молодец, поскользнется, сам виноват.
Первейшей же задачей было, конечно, добиться признания. В первую очередь, США и Англии. Вашингтон, слегка подискутировав насчет «А место ли в Америке монархиям?» ответил согласием, но в те времена Штаты еще мало что решали в глобальном плане: вступление в «концерт» определяло позицией Лондона, - а Лондон, в принципе, не возражая, поставил условием официальное признание самопровозглашенной бразильской независимости Лиссабоном, предложив себя как «честного маклера».
Таким образом, пришло время для официального «развода», и тут возникли вполне естественные сложности. Отец и сын, прекрасно понимая друг друга, знали, чего хотят, - а хотели они сохранения единства двух стран, - но оба понимали и что без взаимных компромиссов не обойтись, и что любые компромиссы будут приняты в штыки общественностью. При этом, если дом Педру был свободен в своих решениях, то дом Жоао пребывал в постоянном стрессе, тяжко сказывавшемся на его самочувствии, даже, вероятно, рассудке, - и на то были вполне объективные причина.
Как ни парадоксально, он, человек, в общем, XVIII века, которого многие считали полудурком, чувствовал потребности времени и принимал новые идеи, а вот королева, вполне нормальная и даже умная, считала возможным развернуть время вспять. В итоге, постоянные интриги, заговоры, даже гражданская война, устроенная «маминой радостью» Мигелем, после провала авантюры спрятавшимся у брата за океаном, - и король медленно угасал, держать, как пишут мемуаристы, «одним лишь страстным желанием решить вопрос с Бразилией».
Переговоры шли сложно, переписка короля перлюстрировалась, а то и прямо изымалась агентами королевы, есть даже данные, что его пытались изолировать, однако в дело вступили англичане, а идти на обострение с сэрами в Лиссабоне уже лет двести никто себе не позволял. Так что, при активнейшем участии британского посла, сэра Чарльза Старта, не слушавшего запретов подкупленных королевой врачей, 13 мая 1825 года уже почти не встающий с постели дом Жоао подвисал уже подписанные сыном грамоты, и британский нотариус, явившийся вместе с дипломатом, заверил их по всем правилам. Отделение Бразилии и ее независимость от Португалии стали не только de facto, но и de jure.
Но, безусловно, не даром: взамен император принял на себя обязательство погасить «английский долг» (помощь Лондона союзнику в борьбе с Наполеоном была совершенно не безвозмездной и зашкаливала за миллион фунтов), а также выплатить лично королю компенсацию в 600 тысяч фунтов, конфискованную в Бразилии в соответствии и законами Империи. Суммы по тем временам громадные, но «честный маклер» тотчас предложил Бразилии займ, и Педру, - куда денешься? – пришлось согласиться,
а кроме того, Лондон, угрожая не признать, выдавил из дома Педру присоединения к договору о запрете работорговли, уже подписанном Португалией. В экономическом плане акт был Бразилии крайне невыгоден, а Лондону по массе причин наоборот, но спорить не приходилось, - и когда все, что нужно, было подписано, правительство Его Величества официально заявило о признании Бразильской Империи, после чего признания пошли потоком, одно за другим.
У отца и сына были все поводы считать себя победителями. Нищая Португалия сняла с себя тяжелейший груз задолженностей, встающая с колен Бразилия вошла в мировой «концерт», обретя все права нормального государства, однако общественность все равно не изволила понять и возмутилась. Португалия «старая», консервативная ставила в упрек Жоао, что он «ради денег поступился честью и колониями, за которые предки проливали кровь»,
Португалия «новая», либеральная, публично честила короля «безумцем», продавшим курицу, несшую золотые яйца, за сущие гроши, а «вся Бразилия», естественно, возмущалась тем, что дом Педру уплатил такие деньги за то, что «омыто кровью и завоевано мужеством лучших сынов народа», причем к голосу глав провинциальных «фамилий» и прочей аристократии, держащей «веревочки» присоединились и те, на кого дом Педру делал ставку.
Торговцы и промышленники, деньги считать умеющие, признавали, что «проблема проблем» решена наилучшим из возможных образов, но при этом хорошо понимали, за чей счет будет выплачиваться «английский заем» и очень обижались на императора, не позаботившегося хотя бы немножко, на пару-тройку процентиков приподнять «английский тариф» на ввоз. И все это, пока еще на очень аккуратном уровне, - шепотки, анекдоты, слухи, -
позволило оппозиции слегка приподнять голову, играя не столько даже на вопросах, отвлеченно теоретических, сколько на нюансах, интересных всегда и всем: обсуждении деталей личной жизни императора. Чем, при всей моей нелюбви к перемыванию косточек и копошению в чужом белье, придется заняться и нам. Не досужего любопытства ради, а опять-таки потому, что в жестко вертикальных, завязанных на персоналию системах – и так далее.
У королев нет ног
Казалось бы, с женой дому Педру повезло, как мало кому. Императрица Леопольдина, принцесса из Вены, была не просто редкостной красавицей. Она была единомышленником, другом, соратником, надежным советником, вернейшим помощником, которому можно было доверить, что угодно, и больше об этом не волноваться. Она увлекалась тем же, что и он: музицировала (а Педру музыку обожал, играл на пяти инструментах, занимался композицией, даже написал мелодию первого гимна страны), великолепно стреляла и любила столярничать (любимое хобби Педру с детства).
Она была всесторонне образованна, отважна, честна в словах и поступках, говорила на шести языках, любила искусство и прогресс, интересовалась науками, отличалась удивительным тактом, умея превращать в друзей даже врагов. Она, наконец, сыграла неоценимую роль в провозглашении независимости, убедив тянувшего резину мужа, что сегодня рано, а завтра будет поздно (знаменитая записка «Фрукты готовы, пора собрать» окончательно подтолкнула принца к выбору).
В Рио, да и не только в Рио, её почитали и любили все, снизу доверху и от мала до велика. А она исступленно любила мужа, в которого верила и которому родила пятерых детей. Вот только муж ее не любил. Уважал, ценил, преклонялся, доверял безмерно, гордился, - но любви не было. Во всяком случае, пылкой, такой, чтобы звезды из глаз, в соответствии с возрастом и пиренейским темпераментом. Почему, неведомо. Возможно, ему, по натуре предельно непосредственному,
просто не подходили синеглазые, белокожие, чуть полноватые блондинки с жестким австрийским воспитанием и очень сдержанным характером. Такое бывает. А возможно, и еще что-то, кто уже скажет. Но факт: интим с законной Педру воспринимал, как обязанность, а звезды из глаз у него сыпались при общении с сеньорой Домитилой Кастру-и-Канту Мелу, смуглой замужней бюнеточкой из Сан-Паулу, чуть старше его и настолько худородной, что ничего лучше мелкого офицерика ей в пару не нашлось.
Они пересеклись незадолго до провозглашения независимости, почти случайно, - и это, судя по всему, было то, что нынче называется «химия», как у Генриха с Анной Болейн. Сразу и наповал. Еще не будучи императором, Педру увез ее в Рио, определив фрейлиной в свиту супруги, а объяснить законному мужу, что нужно подать на развод, нашлось кому. Жена при этом, абсолютно доверяя мужу, ничего не замечала аж до совместной поездки на север, откуда только что ушли португальцы. Корабль есть корабль, там трудно скрыть что-то, а Педру и не скрывал. И потом не скрывал. Под недоуменный шелест двора «Домита» была повышена до первой статс-дамы, награждена орденом, стала маркизой душ Сантуш, родила дочь, которую император, подержав на руках, велел воспитывать, как принцессу, - и естественно, Леопольдине было больно.
Лютая габсбургская гордыня не позволяла Леопольдине ни страдать прилюдно, ни жаловаться родне (в Вене, конечно, все знали, но не от императрицы), любовь к мужу, религиозность, воспитание и та же гордыня не давали развеяться, найдя симпатичную игрушку или двух, твердый характер вынуждал держаться так, словно ничего не происходит, - дабы не нанести ущерб репутации дома Педру и не растраивать детей. И молодая женщина на людях была сдержанна и доброжелательна. Но наедине с собой плакала, и в конце концов, очень спортивная, очень здоровая, как все дамы Дома Габсбургов, начала болеть и чахнуть.
Естественно, все симпатии двора и его «веревок» были на её стороне,тем паче, что «Домита» обладала острыми коготками. У нее хватало ума не стремиться к короне, и отвечая императрице взаимностью, она вела себя скромно, даже родив вторую дочь, - но своего не упускала, при необходимости устраивая совершенно экзотические эквилибры: например, заподозрив (или ощутив), что Лучший Шанс слегка охладевает, вызвала из Сан-Паулу сестру, Эсмеральду, и они на пару начали устраивать Педру такое ослепительное a trois
с привлечением при необходимости разноцветной прислуги, что у мужика грянула новая порция звезд из глаз, а сестренка возлюбленной вскоре стала фрейлиной и баронессой Сарокабу, тоже, между прочим, родив дочь. И само собой, не вмешиваясь (ума хватало) в высокую политику, хваткая провинциалка, стоило ей учуять, что кто-то (неважно кто, хоть министр) при дворе ей враждебен, находила возможности убедить Педру, что типа «Ах, милый, этот гадкий человек хочет разрушить наше счастье».
Естественно, эта тема на годы вперед стала самой вечнозеленой при дворе, и в куртуазных салонах, и в резиденциях епископов, и в офицерских собраниях, - ну и, конечно, в тавернах, на рынках, на улицах, в притонах, кубриках, казармах и рабских общагах. Рио тогда был город не очень большой, через два-три, максимум пять рукопожатий все всех знали, у всех побратим кузена, зять свояка невестки или кум троюродной сестры друга детства подвизался во дворце истопником, лакеем или кучером, -
и решительно вся столица резко не одобряла. Бабы - ибо «а чем я хуже?» (Леопольдина, принцесса из Европы, по умолчанию считалась за существо высшего уровня), мужики потому что завидовали, а многие (смуглые же!) искренне не понимали, как такую белую, такую синеглазую и злотовласую можно поменять на лахудру из наших, каких вокруг завались. Верные мужья сурово качали головами (император должен пример подавать, а не), неверные и за это битые (бразильянки дамы суровые) скрипели зубами (почему ему можно, а мне нельзя?), и падре хмурились, напоминая пастве, что Бразилия, хвала Иисусу сладчайшему, страна католическая....
А самое главное, чего cаriocas, жители Рио, не могли простить категорически, это что дом Педру выбрал «паулистку», понаехавшую из города-конкурента, с которым у столицы была давняя, прочная нелюбовь. Но, между прочим, и в Сан-Паулу, где «Домиту» с сестрицей и все семейство Кастру-и-Канту знали слишком хорошо, а бывшему мужу сочувствовали со дня свадьбы, императора решительно не понимали. Не осуждая даже, а просто недоумевая, что это, caralho, за император, если эта rameira и стерва, на которой пробы негде ставить, крутит им, как хочет. И…
И. Не то, чтобы авторитет символа Независимости падал, - этого пока что не было, - но безупречно светлый образ стал несколько тусклее. Солнце, да, кто спорит, но, увы, с пятнами. К тому же, из Рио слухи ползли в провинцию, где нравы были куда строже, на север, любившие Педру куда меньше, чем юг, обсуждались на фазендах, где старые фидалгу приходили к выводу,
что такое отношение к Даме оскверняет герб Дома Браганца, и возращались в столицу, обрастя деталями, способными смутить саму маркизу Душ Сантуш с сестрой. Нельзя даже сказать, что кто-то специально гнал волну, но подсознательное раскачивание лодки уже началось. И в совокупности с огорчением от «английского займа», рано или поздно не могло не сказаться.
А тут еще и с привычно неспокойного юга, где земли Империи смыкались с территорией Объединенных Провинций Ла-Платы, донеслись неожиданные и вовсе уж нехорошие новости: 19 апреля 1825 года тридцать три всадника, возглавляемых, как потом выяснилось, Антонио Лавальехой, пересекли пограничную Парану и вступили на территорию Сисплатинской провинции…
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НА ДАЛЕКОЙ АМАЗОНКЕ (6)
Триста стрелковцев
Об Аргентине будет отдельно, но кое-что сообщить необходимо, и прежде всего, что никакой Аргентины тогда не было. Были Provincias Unidas de Sud América (Объединённые провинции Южной Америки), в хаосе войны за Независимость ужавшиеся до Provincias Unidas del Rio de la Plata (Объединённые провинции реки Ла-Плата), но тоже немаленькие, - вся нынешняя Аргентина, правда, без юга, где обитали вольные индейцы. Редчайший пример классической конфедерации: 14 штатов, по числу основных городов с областями, каждый из которых с удовольствием стал бы самостийным, но возможности не было: вся торговля шла через главный порт испаноязычного побережья, - Буэнос-Айрес, столицу одновременного штата, самого большого и сильного.
Так что, приходилось держаться вместе, но самостоятельность свою берегли ревностно, не позволяя политикам Байреса навязывать «внутренним» свое видение государственного устройства. Изрядно поспорив и даже слегка повоевав, в 1825-м, после потери Верхнего Перу, ставшего Боливией, пришли к консенсусу: «врозь, но вместе», постановив, что внутренние дела – святы и никто в них лезть не будет, но Байрес ведет внешние дела и вообще играет роль арбитра. Главной головной болью, одной на всех, стала проблема провинции Banda Oriental, - Восточный Берег, - когда-то отнятой португальцами, потом возвращенной, а затем, как мы уже знаем, под шумок прихваченной Бразилией.
Сломав очень упорное сопротивление тамошних донов, домы расставили в Cisplatina гарнизоны и начали укреплять позиции, для начала принявшись с корнем выдирать все испанское. Даже разговаривать на castellano, хотя и не запрещалось, но считалось предосудительным, чем-то типа «кухонного сепаратизма», а уж высылки на север Бразилии за малейший намек на нежелание превращаться в «добрых бразильцев» вообще были в порядке вещей. По ту сторону границы, куда бежали эмигранты с жалобами и просьбами помочь, такие португальские штучки, конечно, многих бесили, особенно во «внутренних» провинциях, -
и не только в связи с «наших бьют», но и по причинам вполне материальным. Порт Монтевидео был единственной альтернативой «центру», диктовавшему свои правила ввоза и вывоза, и освободив Восточный Берег, можно было избавиться от диктата и бразильских таможенников, и «байресских», которые, в свою очередь, был не прочь оставить Уругвай домам, потому что никто, находясь в здравом уме, не станет создавать себе конкурента. В связи с чем, кстати, в свое время поспособствовали бразильцам, отказав в помощи бойцам Хосе Хервасио Артигаса, лидера уругвайских патриотов, когда тот умолял о поддерже.
К тому же, сэры, основные партнеры Буэнос-Айреса, считались покровителями Империи, и гасили любые разговорчики о помощи эмигрантам на корню. То есть, конечно, о серьезной помощи. Подбрасывать немного оружия, позволять, ежели что, отступить на свою территорию, чтобы пересидеть, «внутренним» никто не запрещал, - но чтобы без огласки, и ни в коем случае, ничего больше. Иметь дело с Империей в одиночку, на свой страх и риск, мелкие провинции боялись.
В итоге, сюжет повторялся с монотонностью метронома. Рейд, стычка с бразильцами, разгром, потери, отступление. Рейд, стычка с бразильцами, разгром, потери, отступление. Без вариантов. Но с вариациями: иногда разгром полный, иногда просто не прорвались, и потери то тяжкие, то не очень, а бывало, что вернуться везло и всем. Так что, за пару лет герилья практически угасла за неимением gerilleros: кто-то, разуверившись во всем, отошел от дел,
кто-то вообще уехал в Парагвай, где давали землю, но уже без права выезда, и чем дальше, тем меньше лидеры Объединенных Провинций принимали еще барахтавшихся Orientales (Восточных) всерьез. Однако в 1825-м, после ухода в свободное плавание Верхнего Перу, имевшего тогда выход к морю на западе и не желавшего кормить монополистов с восточного побережья, ситуация изменилась.
Потеряв изрядную часть прибылей, байресские хотели компенсировать утраты, и Бернардино Ривадавия, очень солидный, связанный с Англией политик, мечтавший создать из набора провинций прочное государство (естественно, во главе с Буэнос-Айресом), пригласил на беседу генерала Антонио Лавальеху (позывной El Tirador, то есть, Стрелок), лидера самых непримиримых Orientales. Говорил откровенно: уважаемые люди, в принципе, готовы помочь. Настолько от души, что если у amigos не сладится, с тех, кому повезет выжить, не будут взыскивать долги.
Но если сеньор Лавальеха покажет, что он и его парни не пальцем деланы, тогда Байрес не станет мешать «внутренним» помочь дорогим amigos, а возможно, вмешается в игру сам. Но взамен, после победы, Монтевидео должен будет не вступать в Конфедерацию, а заключить с провинцией Буэнос-Айрес прямой федеративный договор. Да, и еще одно условие: если братья с Восточного Берега согласны, договоренность строго конфиденциальна – никто из «внутренних» знать ничего не должен, пусть помогают, но вслепую. ¿Еstás de acuerdo?
Si, - сказал генерал. Понимаю. И поехал по «внутренним» провинциям, к старым друзьям, в очередной раз просить помощи. Теперь даже не денег (деньги были, а откуда, он не говорил), а людей. Но вот людей-то как раз и не давали. Немного песо отсыпать соглашались, а людей нет. Даже добровольцев. Объясняя, что не хотят, как прежде, терять людей без толку. В общем, повторяя сказанное сеньором Ривадавия: покажите, что на что-то способны, и тогда дадим отмашку, а пока что, если блажь взбрела, давайте сами. Так что, в смысле живой силы Стрелку осталось рассчитывать только на своих, и Стрелок кинул клич.
Он рассчитывал собрать человек двести. Но из ветеранов прежних рейдов отозвались чуть больше трех десятков. В общем, смертники. Притом, что в провинции регулярных войск было не как раньше, - «Конфедерация Экватора» напугала Рио, и большую часть солдат, поскольку редкие вспышки герильи на юге уже никто всерьез не воспринимал, перевели на север, - все равно, у генерала Лекора, губернатора Cisplatina, было не меньше 5 тысяч штыков и сабель. Плюс три тысячи местных солдат генерала Фруктуозо Риверы, вояки, хотя и с очень сложной репутацией (это разговор отдельный), но популярного. По тем временам и местам более чем солидно.
И тем не менее, «Тридцать Три», перейдя границу, под знаменем с улыбающимся солнцем двинулись в глубь пампы, а пять дней спустя, 24 апреля солнце улыбалось над городком Сориано, оставленным ошарашенным гарнизоном (98 штыков) без единого выстрела, и дальше за Стрелком шли уже почти шесть десятков добровольцев. 2 мая, когда после короткого, с минимальными потерями боя отряд занял Гуадалупе, Тreinta-y-Тres превратились в Тrescientos (а если точно, то в 297), а потом на их сторону, изменив Империи, перешел генерал Ривера,
и отряд партизан превратился в маленькую, но все-таки армию. Уже через несколько дней под Bandera con El Sol (Солнечным Знаменем) маршировало более трех тысяч бойцов. 8 мая разъезды инсургентов появились близ Монтевидео, 14 июня в городке Флорида собрались делегаты «свободной земли», 18 августа Ejército de Liberación (Армия Освобождения) блокировала Колонию-дель-Сакраменто, город-спутник столицы Cisplatina. А неделю спустя, 25 августа, «Флоридский конгресс» объявил «вечное отделение» Banda Oriental от Бразильской Империи.
Честь ищите за речкой
Несколько позже, поясняя мотивы своих решений, Карлос Фредерико Лекор, виконт Лагуна, воин опытный и доблестный, заработавший генеральскую звезду в войне с Наполеоном, разложил все по полочкам. Действительно, пять тысяч солдат – это неплохо. Но если в кулаке. Однако гоняться за непонятно где рыщущими мятежниками по пампе, где уже резвились гаучо, было бы безумием. Тем паче, с учетом измены Риверы. И отбивать городки, не имеющие военного значения, тоже. Главное – порты: Монтевидео, Колония, да еще крепость Санта-Тереза, прикрывающая границу Cisplatina с Империей, - их и следовало держать, подтягивая силы с периферии, а потом дать генеральное сражение или дождаться штурма, в исходе которого никаких сомнений у губернатора не было.
Здравость стратагемы в Рио постфактум признали все, от императора до журналистов, - но суха теория. На практике же 24 сентября у речки Ринкон генерал Ривера с отрядом в 270 сабель, столкнувшись с втрое превосходящими силами бразильцев, шедших к Монтевидео, буквально стер их, потеряв семерых и уложив 140 солдат, да еще взяв в плен три сотни. А главное, главное, захватил огромный обоз и табуны, без которых гарнизону провинциальной столицы было уже тяжковато.
Поэтому, сразу по получении неприятной новости, губернатор послал в пампу серьезные силы (почти 2000 солдат) во главе с полковником Мануэлом Рибейру, специалистом по антипартизанской войне, категорически приказав отбить потерянное. Но 12 октября на берегу Саранди объединенные отрыды Лавальехи и Риверы вновь побили бразильцев, да так, что из полутора тысяч вернувшихся в строю остались около тысячи. А 24 октября съезд во Флориде обратился к Конгрессу Provincias Unidas del Rio de la Plata с просьбой «принять нас в лоно семьи, от которой мы так долго были оторваны».
И теперь в Рио напряглись всерьез, ибо такого не ожидали. Юг, безусловно, доставлял проблемы, там постоянно что-то происходило, там время от времени постреливали, там приходилось держать войска, а это стоило денег, - но, с другой стороны, этот же юг, пусть чужеродный (ментально его считали колонией), окупал все расходы с лихвой. Монтевидео был важен стратегически, - как-никак, а контроль над устьем Ла-Платы, - но главное, бразильские торговые дома имели возможность организовать, как нынче модно говорить, «трубу», по которой товары из «внутренних» провинций шли на внешний рынок (Монтевидео, как перевалочная база, считался тогда круче самого Байреса).
Разумеется, дом Педру срочно встретился с посланником Великобритании, и услышал от сэра Ральфа, что c точки зрения кабинета Его Величества Cisplatina, безусловно, неотъемлемая часть Империи, так что, если император запросит, Лондон готов предоставить займ на военные нужды. А кроме того, укажет властям Буэнос-Айреса на категорическую недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенного государства под какими угодно надуманными предлогами.
Учтиво поблагодарив и отпустив дипломата, дом Педру незамедлительно известил генерала Лекора, что подмога скоро будет и распорядился не медля отправлять в Cisplatina подкрепления из Рио, одновременно готовя отправку подразделений с севера, а в Буэнос-Айрес, где собравшийся Конгресс начал обсуждать вопрос об удовлетворении просьбы ирредентистов, склоняясь к тому, что надо бы принять, 10 декабря ушла официальная нота:
Бразильская империя с высоким почтением извещала власти Объединенных Провинций Ла-Платы, что их позиция расценивается, как «исключительно далекая от дружественной», в связи с чем Дом Педру I, конституционный император, имеет честь объявить войну. Но с оговоркой: если в течение трех недель соседи отмежуются от Orientales и выразят готовность при нужде оказать поддержку силам правопорядка, ультиматум следует считать утратившим силу.
Когда депеша была доставлена, в Байресе уже несколько дней заседал спешно созванный Конгресс с единственным пунктом повестки дня: что делать? Как и следовало ожидать, представители внутренних провинций один за другим озвучивали «Своих не бросаем». Кто-то с упором на то, что Banda Oriental – бесспорная, нагло аннексированная часть Объединенных Провинций, кто-то взывал к «идеалам республики», напоминая о расправах «беспощадных тиранов» в Пернамбуку, которые неизбежно повторятся на юге, еще кто-то напирал на невозможность не защитить собратьев по El Mundo Español, -
и наконец некий Хорхе Мадеро Нуньес из провинции Корриентес, попросив слова, зачитал письмо Антонио Лавальехи. Мы, народ Восточной Провинции, - сообщал Стрелок, - сделали все, что могли, и даже больше, но наши силы, как ни печально, иссякают. Прибытие войск из Бразилии будет означать перелом в войне, а потому вынужден нарушить данное слово и… Далее следовал примерный пересказ беседы с сеньором Ривадавия и сообщение о том, что пять писем с просьбой на основании тайной договоренности оказать помощь остались без ответа. Поэтому, завершал Стрелок, обращаюсь непосредственно к Конгрессу, как к высшей власти всех Провинций…
Зал замер. Все смотрели на дона Бернардино, до сих пор молчавшего, и дон Бернардино поднялся на трибуну. Он был очень огорчен тем, что сеньор Лавальеха оказался не человеком чести, нарушив слово хранить полную приватность, но не возражал разъяснить свою и Буэнос-Айреса позицию. И разъяснил. Да, Banda Oriental – естественная часть Объединенных Провинций, аннексированная Империей. Это бесспорно. Да, бразильцы ведут себя варварски, и это не может не возмущать. Да, порт Монтевидео с точки зрения интересов Provincias Unidas del Rio de la Plata крайне привлекателен, а героизм «восточных братьев» сродни героизму героев Гомера и заслуживает всяческого восторга. Но.
У Бразилии есть не только армия, но и флот, по сравнению с нашим, очень хороший, а у нас только армия, причем, в основном, кавалерия. Правда, совсем неплохая, однако бразильцев больше, и если завтра война, они сделают ставку не на полевые сражения. Они просто блокируют Байрес, - а то и, не дай Бог, - оккупируют, и мы захлебнемся без экспорта-импорта. Кроме того, если у нас с Лондоном отношения неплохие, то у парня из Рио с Лондоном отношения великолепные, а Лондон, - извольте, вот официальный ответ посла, - заинтересован в сохранении территориальной целостности Бразильской Империи. Однако при этом не возражает против того, чтобы Объединенные Провинции
выступили модератором примирения повстанцев Banda Oriental с центром. Более того, полагает справедливым, что взамен Буэнос-Айрес получит право участия в работе порта Монтевидео, а это ведь в наших общих интересах, сеньоры! Ну и, короче говоря, Байрес готов стать посредником, но категорически отказывается принимать участие в разного рода авантюрах, развязанных некоторыми безответственными лицами, превратно понявшими его, Бернардино Ривадавия, мысли.
Как указано в мемуарах Хосе Эспады, «стало весьма шумно», и среди общего вопля как-то не очень заметно прозвучало короткое выступление капитана Луиса Мора из провинции Энтре-Риос, сообщившего всем вместе и никому в отдельности, что ему, слава Богу, человеку чести, мужчине и воину, сложно разобраться во всех этих словесах… Но.
Но он не торгаш и не политик, что, в сущности, одно и то же, он солдат, дворянин и мужчина, и ему понятно одно: братья восстали, братья хотят домой, братьям обещана помощь, братья свою часть договора исполнили, и если им теперь оказать, лично он, Луис Мора де Кастро, не сможет смотреть в в глаза своих сыновей. теперь ждут. А потому, чувствуя недомогание и нуждаясь в свежем степном воздухе, уходит в отставку для лечения за границей.
Дальше все пошло невероятно быстро. Через совершенно открытую границу в Banda Oriental хлынули добровольцы из всех внутренних провинций, а также из Байреса. Военные, как капитан Мора, согласно прошению, - «в связи с болезнью» или «личными делами», - а штатским вообще некому было отчитываться, - особенно hacendado, царям и богам в своих бескрайних владениях, отправлявшихся «за речку» конно и оружно, в компании десятков, если не сотен пеонов и при собственных пушках.
Остановить поток не было никакой возможности, - а ряды Ejército de Liberación выросли чуть ли не втрое. И 31 декабря отряды Orientales штурмом взяли Санта-Терезу, сильнейшую крепость на северо-востоке Cisplatina, вытеснив из провинции последние имперские части. Теперь под контролем Империи оставались только Колония плюс Монтевидео, и деваться было некуда: в первые минуты 1 января 1826 года («Труднейший день моей жизни», скажет позже дон Бернардино), как только истек срок императорского ультиматума, Конгресс Объединенных Провинций Ла-Платы объявил состояние войны с Бразилией.
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НА ДАЛЕКОЙ АМАЗОНКЕ (7)
На суше и на море
На самом деле, этой войны не могло не случиться. Ее хотели все. Синьор Ривадавия (позже он похвастается в мемуарах) весьма гордился красиво проведенной интригой. Ему удалось создать конфликт, в итоге которого Байрес имел все шансы урезать права «внутренних» и взять под контроль Монтевидео, при этом показав Лондону, что власти Байреса до конца были против, и война начата «безответственными элементами», на их страх и риск, а дальше уже выбора не было. Однако и Дом Педру не имел оснований жаловаться: быстрая и победоносная (а какая же еще?) война укрепляла его позиции в принципиально новой обстановке.
Ибо в марте 1826 года в Лиссабоне, наконец, усоп долго болевший король Жоао, успев перед смертью надиктовать назначение дочери, Изабеллы Марии, регентом королевства «до тех пор, пока не вернется мой сын». То есть, Дом Педру, автоматически ставший в момент кончины Его Величества королем Педру IV Браганца. Ударом это не было: отца император любил, но что тот не жилец, знал, как и все, – и теперь законному наследнику следовало решать, как претворять в жизнь то, что давно уже было задумано и согласовано с папой. Они, как мы уже знаем, понимали друг друга и полностью соглашались в том, что Португалия и Бразилия должны остаться единым целым. А что расстались, так ничего страшного: как мудро говаривал еще не родившийся Владимир Ильич, чтобы объединиться, нужно размежеваться. Ну и, разумеется, максимально сблизить две страны политически.
Однако это в общем и целом, - а как быть с конкретикой? Покинуть Рио король Педру IV не мог («Я остаюсь!» обязывало), да и не хотел: на фоне богатой, перспективной Бразилии, со временем вполне способной, как представлялось, стать первой в тандеме, престижная, но маленькая и нищая Португалия явно проигрывала, а передавать корону младшему брату, Мигелу, император не собирался. Они были очень разными: в отличие от «папиного» Педру, дом Мигел, любимец жесткой и предельно фанатичной матери,
был крайним консерватором, мечтавшим вернуть страну во времена до всяких революций. Что уже и показал, в 1824-м учинив (с подачи мамы и самых «черных» кругов общества) кровавый путч против кортесов и отца, сорвавшийся лишь потому, что дома Жоао спасли англичане. После чего Мигела выслали в Вену, и теперь он выступил с осторожными претензиями на престол, упирая на то, что папенька ведь завещал «одному из сыновей, когда вернется», а они оба не в Португалии, и Педру вернуться не может, а значит, королем следует быть ему.
Это, впрочем, шло на уровне разговорчиков: Педру знал брата, знал маменьку, и понимал, что Мигель на троне – крах всех планов, а к тому же еще хаос в стране, и еще хорошо, если не кровавый. Поэтому, объявив, что престол принимает, вызвал к себе брата, - и пока тот плыл в Рио, даровал исторической родине конституцию, копию бразильской, названную Португальской Конституционной Хартией. Кортесы приняли ее с восторгом, ибо она была, во-первых, куда либеральнее имевшейся, а во-вторых, резко усиливая власть монарха, могла примирить либералов и набравших силу «ультра», кучковавшихся вокруг алчущей крови королевы-матери.
Но «ультра», конечно, были крайне недовольны «бразильскими фокусами», - и кстати, Большие Дворы тоже отнеслись с непониманием. В Европе расцветала корчевка всего, оставшегося от революций, в Париже, где «ничего не забыли и ничему не научились» Бурбоны, открыто называли Педру «Бонапартом» (страшнейшее ругательство по тем временам), да и в Лондоне императора считали «якобинцем» (до прав личности, прописанных в его конституции Англия доросла лишь через четверть века).
Впрочем, права короля чудить, как хочет, коллеги не оспаривали, - ибо король имеет право на все. И 2 мая, подготовив почву, Педру объявил свою волю: отрекся от прадедовской короны в пользу Марии да Глория, своей старшей дочери шести лет от роду, мужем которой и регентом, пока не вырастет, будет принц Мигел, если присягнет на верность конституции. Но с оговоркой: все потом. Пока же идет война, глава государства ни на что не должен отвлекаться,
и брат ему нужен, потому что кому ж и верить, если не брату, - вот, стало быть, пусть сестра остается в Лиссабоне регентом, а все остальное в шесть часов вечера после войны. Возражения есть? Возражений не было. Логику императора признали здравой все, в первую очередь принц Мигел. Он на все согласился, во всем покаялся, бойко присягнул, и 5 ноября обручился с племянницей.
Война меж тем шла ни шатко, ни валко. Казалось бы, все предпосылки для быстрой и элегантной победы были налицо: Лондон выписал обещанный транш, Объединенные Провинций никак не могли определиться с мобилизацией (никто не хотел подчиняться Байресу, а Байрес настаивал на своем «особом статусе»), пополнения, оперативно доставленные морем в Cisplatina, дали генералу Лекору возможность перейти в наступление и потеснить ополченцев с «отпускниками», заняв многие ранее освобожденные городки, - но и только.
Сражаться в пампе добровольцы (армия Империи была наемной) просто не умели, стоило им покинуть форпосты, - и летучие отряды Стрелка били их, как хотели, не пропуская обозы. Что, разумеется, императора не радовало, но и особо не огорчало: всем было понятно, что судьба кампании решается не в степях Восточного Берега, а на море. Флот Империи, если не качественно, то количественно превосходил флот Буэнос-Айреса (у «внутренних» провинций флота не было вообще), военные моряки у Империи были, а у Буэнос-Айреса практически отсутствовали,
и задача на 1826-й казалась очевидной: войти в Ла-Плату и захватить порты южнее Байреса, а затем занять (или, как минимум, блокировать) сам Байрес. С первым вопросом справились относительно легко: великая река оказалась под полным контролем бразильцев, потрепанный флот противника отошел на юга, в порт Кармен-де-Патагонес, Буэнос-Айрес от внешнего мира отрезали, а вот потом все забуксовало. Ибо, как выяснилось, свои планы имел кое-кто еще.
Нет, англичане, безусловно, поддерживали Бразилию. И потому что старые союзники, и потому что с Провинциями у них были свои счеты (в 1806 и 1810 сэры пытались захватить Байрес, но крайне неудачно, а такое не забывается). Так что, формально никаких проблем. Дали заем, потом еще один, разумеется, под «военные» (то есть, повышенные) проценты, Англия поставляли (естественно, по «военным», то есть, повышенным ценам) нужные товары и военное снаряжение. ей втридорога необходимые товары и военное снаряжение.
Однако в то же время англичане навели мосты и с Провинциями. Старые счеты старыми счетами, а кто было вспомнит, тому глаз вон: полная гегемония Империи на всем побережье Лондон не устраивала. Поэтому сеньору Ривадавия дали заем, разумеется, под «военные» проценты и начали, естественно, по «военным» ценам поставлять нужные товары и военное снаряжение. Ясное дело, негласно, через частные торговые дома, - но посланник Британии в Рио дружески попросил императора учесть, что война войной, а экономические интересы подданных нейтральной Англии страдать не должны, так что, суда под «Юнион Джек» следует в Байрес пропускать, потому что иначе капитаны Royal Navy обидятся.
В итоге, блокада была, но не совсем, а когда блокада «не совсем», это уже, собственно, и не очень блокада. К тому же, в регионе вдруг появился очень опытный и толковый моряк - Гильермо Браун, пребывающий в длительном отпуске адмирал Его Величества, исключительно из любви к приключениям принявший командование флотом Соединенных Провинций, то есть, Буэнос-Айреса. После чего морские баталии пошли с переменным успехом, захватить Кармен-де-Патагонес, базу ВМФ противника, бразильцам так и не удалось, -
а сеньор Ривадавия, политической идефикс которого было перехватить у Рио лавры любимой жены Альбиона, считал себя «счастливейшим человеком в мире». С полным на то основанием - успехи флота так подняли престиж Буэнос-Айреса, что осенью 1826 года ему удалось воплотить в жизнь свою заветную мечту: возникшая на волне восторга партия «централистов» пробила в Конгрессе «конституцию 24 октября». Зыбкий «союз» превратился в федерацию, Байрес – из «первого среди равных» в столицу, а лично дон Бернардино стал первым президентом.
The peace process hasn´t alternative
Однако же речь о Бразилии. Изначальные планы которой, - прийти, увидеть, победить, - лопнули. Легкой прогулки на юг не случилось. Нужны были деньги и солдаты. Пришлось повышать налоги, чему никто и никогда не радуется, - а уж на севере, где не понимали, зачем оплачивать южные затеи, не радовались втройне, пришлось вводить внутренние займы (правда, «новые люди», опора и надежда Педру, отнеслись с пониманием, получив заверения о грядущих льготах), пришлось брать людей откуда угодно: мелких уголовников («Искупишь кровью!»),
бродяг и нищих (этих просто ловили на улицах), негров в обмен на свободу (рабов, готовых воевать, правительство не отнимало, а выкупало, на что опять-таки требовались деньги). Естественно, времени обучать не хватало, особых побед от таких вояк ждать не приходилось, тем паче, что на запах деньжат потянулись мухи, без которых ни одна война не бывает: подрядчики жульничали, чиновники воровали, - и все это сказывалось на солдатском котле и выплатах, то есть, на моральном духе.
Тем не менее, к концу года новые подразделения были кое-как подготовлены и переправлены к границе Cisplatina, куда прибыл лично Дом Педру, красиво поучаствовавший в нескольких стычках, заработавший авторитет в войсках и решивший было командовать лично, вдохновляя солдат, - однако жизнь распорядилась иначе: 11 декабря в Рио умерла Леопольдина. Оставшись, как всегда в таких случаях, на хозяйстве, она, даром, что тяжело переносила последствия выкидыша,
держала вожжи крепко, и по мнению врачей, поправилась бы, кабы не «жестокая меланхолия» (депрессия), вызванная, - по общему мнению двора и «улицы», - наличием «Домиты». Так что, Педру, вернувшись в плачущий Рио (императрицу обожали все) обнаружил, что относятся к нему куда холоднее, чем раньше, тем более, вернулся он с фронта отнюдь не в лаврах победителя, которому простили бы многое.
А между тем, на юге наконец-то сформированная армия Объединенных Провинций пересекла Ла-Плату и, чего уж вовсе никто не ждал, двинулась за пределы Cisplatina, в хоумленд Империи, атаковав совершенно обескураженных бразильцев, притом достаточно успешно, а вот контратака генерала де Барбасены при Итуанго 20 февраля 1827 года оказалась далеко не так убедительна. Не то, чтобы поражение, - противник, прикинув силы, ушел восвояси, - но ни в коем случае и не победа, несмотря на звонкую реляцию в Рио. После чего, все на полгода свелось к мелким стычкам,
а в ноябре британский посол в Рио сообщил Дому Педру, что правительство Его Величества, которое он, виконт Стренгфорд, имеет честь представлять, полагает продолжение конфликта вредным для интересов международной торговли. В связи с чем, предлагает императору начать с Буэнос-Айресом переговоры, а он, со своей стороны, гарантирует, что интересы Империи будут в максимальной степени удовлетворены. Тогда же посол в Байресе сообщил сеньору Ривадавия, что кабинет Его Величества, которое он, виконт Бэйли, имеет честь представлять, полагает продолжение конфликта вредным для интересов международной торговли. В связи с чем,
предлагает президенту начать переговоры с Империей, гарантируя, что интересы Объединенных Провинций будут удовлетворены в полной мере. Высказано было не жестко, как совет, и дон Бернардино, у которого дела шли лучше некуда, - войска Риверы как раз вынудили бразильцев уйти из Монтевидео, - намека не понял. От имени всех провинций, на основании «конституции 24 декабря», - и вскоре, 7 июля, был вынужден подать в отставку: в Байресе имелось достаточно важных персон, считавших, что они ничем не хуже и очень уважавших виконта Бэйли.
Естественно, намека предпочел не понять и Дом Педру. Притом, что все складывалось непросто, война на море все же шла с перевесом в пользу Империи, и к тому же, был неплохой шанс добиться перелома на суше. Провинции уже бросили в дело все, что могли, а у него был стратегический резерв: в начале 1827 он отправил в Европу доверенных людей, - полковника Уильяма Коттера в Ирландию, полковника Карла Гитлера в Баварию, - чтобы набрали и привезли наемников для ударных частей. Вернее, не совсем наемников, а тех, кто желает изменить жизнь к лучшему, послужив в армии, а потом получив ферму и подъемные, -
и в начале января 1828 года завербованные прибыли. Ирландцы, - почти три тысячи, - из крестьянской бедноты, с военной службой незнакомые (но это не напрягало: всем было известно, что гэлы после муштры становятся прекрасными солдатами), а немцы, примерно две тысячи, народ посерьезнее. Херр Гитлер старался подбирать не просто охочий люд, а людей солидных, ветеранов наполеоновских войн, чин-чином заключая детально проработанные контракты.
Начали подготовку, и вскоре с уроженцами Зеленого Острова начались проблемы. Кое-кто, узнав о войне, ушел в отказ, утверждая, что м-р Коттер их об этом не предупредил (их, поуговаривав, отправили на север, поднимать целину, наделив землей, но не выплатив подъемные), а остальные, решившие повоевать, злились из-за дисциплины, которую офицеры, добиваясь скорейшего результата, наводили жестоко. К тому же, всем чужие, не знающие языка парни, не зная, чем забить досуг, запивали тоску и страх перед скорой отправкой на фронт дешевой кашасой, - а пьяный paddy, уж поверьте человеку, живущему недалеко от ирландского паба, это очень тяжелый случай.
Начались эксцессы, скандалы, драки с местными, - особенно с черными рабами, которых наемники дразнили «макаками», что неграм очень не нравилось. А ирландцам не нравилось, что и начальство, и местные «полубелые» во всех случаях занимают сторону негров. Хотя уж что-что, а это в бразильских, тем паче, южных условиях никого из знающих людей не удивляло. Ибо: ну да, черные, ну да, юридически не люди, - и что с того? Нормальные ж люди, не какая-то рыжая гопота.
Драки, между тем, стали нормой жизни. Перешли в побоища. Потом в ночные поножовщины. Всеми непонятые, paddy психовали, и в казармах назревало что-то нехорошее, - а потом в порох упала искра, с той стороны, откуда никто не ждал, - из немецких казарм. Там, в принципе, особых проблем не было, но конфликты раз за разом случались: возрастные дядьки, и под шрапнелью бывавшие, и в штыковые ходившие, считали себя круче ни с кем никогда не воевавших муштровиков, подгонявших старых солдат под новые, принятые в Империи стандарты. За это пороли, и хотя порка за пререкательства была прописана в контрактах, гансы ворчали. А 9 июня 1828 случился перебор.
Пустяк, казалось бы. Некий Герман Греф, экс-капрал вестфальской армии, украл гуся и был приговорен к 50 плетям, а когда попытался возражать, - дескать, согласно контракту, за мелкое воровство положено от 12 до 15 «горячих», - за неуважение к решению офицера огреб по полной программе, 250 плетей, как за дезертирство. Фактически, это означало смертную казнь, и после двести десятого удара немцы не выдержали. Строй рассыпался, полумертвого Германа вызволили, офицеров, схватившихся за пистолеты, начали бить, а когда те разбежались, - ловить. Естественно, на шум прибежали из соседних казарм и бодег ирландцы, - и началось.
Для начала разгромили дома особо нелюбимых начальников. Затем, взломав арсенал и расхватав оружие, двинулись в город, - выражать протест, - по дороге мордуя черных (немцы, правда, старались негров защищать) и разбивая бочки в попутных распивочных, - и наконец, уже в состоянии полного изумления, начали грабить все подряд, отвечая огнем на попытки вразумления. В общем, описать события вечера и ночи под силу разве что Босху, а наутро стало ясно: гарнизона Рио для укрощения зеленых чертей и розовых слоников не хватает, -
в связи с чем, власти начали раздавать оружие штатским. Включая, конечно, рабов, которым в сложившейся ситуации полностью доверяли, справедливо полагая, что carioca, хоть белый, хоть черный, рушить свой город не позволит никому. В итоге, к вечеру 10 июня волну остановили и отжали обратно в казармы, где солдатики заняли глухую оборону, благо, боеприпасов хватало, а император запросил помощи у капитанов английских и французских военных судов, стоявших в порту.
Те, разумеется, не отказали, и на третий день мятежа немцы, четко оговорив условия (никаких расстрелов, порки от 22 до 63 «горячих»), сложили оружие. Ирландцы же, выяснив, что усмирять их, кроме французов, - куда ни шло, - явились еще и проклятые limey´s, открыли по красным мундирам огонь, и окончательно казармы пали только утром 12 июня, после тяжелого штурма, при больших потерях с обеих сторон.
Далее, естественно, пошли оргвыводы. Большинство немцев отправили на целину с минимальными подъемными. Большинство paddy за казенный счет обратно за океан. Но главное, в итоге мятежа исчезли два потенциально лучших подразделения Империи, и теперь, когда о наступлении не приходилось и думать, Дом Педру был вынужден подчиняться желанию Лондона. Уже через две недели в Рио прибыла делегация Объединенных Провинций, а 27 августа был подписан Convención Preliminar de Paz, - предварительный мирный договор, - фактически продиктованный британским «независимым наблюдателем» маркизом Понсонби.
Условия простые и понятные. Поскольку уважаемые друзья проявили равную доблесть, компромиссу нет альтернативы, Бразилия расстается с Cisplatina, сохранив только несколько небольших участков, военные затраты ей должны возместить Объединенные Провинции, как зачинщик конфликта, но свободная Banda Oriental будет независимым государством Уругвай, гарантом самостийности которого готова быть Англия. Рассчитывающая взамен на беспошлинную торговлю в портах всех трех стран района Ла-Платы. И да, чтобы не забыть, правительство Его Величества категорически против диктата Буэнос-Айреса «внутренним» регионам. Таково мнение лорда Каннинга, главы Форин офис, и если кто-то не согласен…
Несогласных не было. То есть, были, конечно, но в присутствии маркиза все улыбались. Кроме разве Антонио «Стрелка» Лавальехи, однако его к тому времени отстранили от политики, сделав ставку на понятливого и договороспособного Фруктуозо Риверу. Злость, обиду и разочарование сбрасывали, разбираясь между собой. В Буэнос-Айресе полностью рухнули в никуда «централисты» вместе с «конституцией 24 ноября», и все стало, как раньше, даже круче, потому что «жесткая» федерация превратилась в «мягкую», став отныне Аргентинской Конфедерацией. Императору же предстояло объяснять причины такого исхода общественности: приподнявшей голову «старой оппозиции», но главное, тем, на кого он опирался и кто вложил в войну немалые деньги: торговым домам, рассерженным потерей лучшего порта Ла-Платы.
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НА ДАЛЕКОЙ АМАЗОНКЕ (8)
Сорок тысяч одних инсайдов
Снижение рейтинга императора началось задолго до конца войны, когда стало ясно, что все идет не так и затягивается. Оживились республиканцы, как в кавычках («отцы» провинциальных «фамилий»), так и вечно романтическая интеллигенция, в основном, тоже провинциальная, стремящаяся сделать себя в столичной политике. Уже весной 1827 года в Рио появилась газета «Aurora Fluminense», затеянная Эваристу да Вейга, депутатом парламента и очень, известным композитором, а вокруг редакции, как водится, потихоньку собрался кружок «рассерженных интеллектуалов» с республиканским уклоном и официальным статусом, вроде тоже депутата Диогу Антониу Фейжо, популярного проповедника, и сенатора Каэтану Вержейру.
Официально учрежденная в память «нашей неугасимой звезды», газеты первые месяцы уделяла основное внимание недавно почившей Леопольдине и о том, как много потеряла Бразилия, «не сумев защитить ее от горьких обид». Конечно, без привычной нам с вами «клубнички», - понятия о приличиях тогда существовали, - но о «маркизе Д.» поминалось через раз, и читатели прекрасно смекали, кто «бездушный виновник» безвременной смерти прекрасной, достойной и всеми любимой молодой женщины. Потом (дело ведь прошлое, можно и вспомнить) пошли письма с мест, в основном, из Пернамбуку, о «зверствах военщины» в ходе восстаний 1817 и 1824 годов. Не тех, конечно, «зверствах», что по приговору, а о сопутствующих. Без упоминаний «самого главного» имени, но с упором на «эти лица и ныне близки ко двору, и в основном, португальского происхождения».
Затем пошла критика «английского займа», уплаченного (с какой стати?) за Португалию, ограничений на работорговлю, из-за которых национальная экономика страдает (ну и что, что англичане потребовали? – у бразильских собственная гордость!), «аналитические обзоры» о военных займах и бездарности командования (где победа, победа где?). Потом, ясное дело, хитом стал мятеж в Рио (понавезли бандитов, пол-города сожгли, а кто виноват?.. кто виноват, мы спрашиваем?). Короче, мыли косточки министрам, «Домите», приближенным, распространяли сплетни, слухи, вплоть до мелочей: вот почему Его Величество подписывается «Педру Португальский»? Это что, намек? Нас опять хотят сделать бесправной колонией? Общественность алчет знать! А уж когда поражение в войне стало фактом, императора, отражая общее недовольство, начали клеймить, как бездарь чуть ли не открытым текстом.
Что интересно, чуть ли не в каждом редакционном материале «Авроры» красной нитью звучало нечто типа «О! мы знаем, что над нами висит меч тирании, но мы с радостью взойдем на эшафот!», - однако никакой меч не висел и никакого эшафота не наблюдалось. Дав полную свободу слова и прессы, Дом Педру не считал возможным применять силовые методы, тем паче, что это шло вразрез с его убеждениями, - а поскольку быть смелым безнаказанно всем нравится, да и тиражи росли, принося издателям немалый доход, газеты подобного рода плодились, как грибы в самый сезон. Из номера в номер: лузеры! побоялись англичан! слили Монтевидео! Как теперь будем торговать? И подписку оформляли уже не только фазендейру, но бизнес-класс: ведь, правда же, они давали деньги, им обещали льготы на Ла-Плате, - но где Ла-Плата?
Разумеется, императора это нервировало. Взяв на себя груз огромной ответственности и будучи человеком долга, он сознавал, что теряет контроль над ситуацией, и пытался найти варианты, но было тяжко: все, ранее сидевшие смирно и выжидавшие, теперь начинали включаться в протест. А тут еще ударил в спину брат, - чего Педру, отличавшийся, как все отмечали, старомодными понятиями о чести (его иногда называли Дон Кихотом), никак не ждал. Ведь все складывалось строго по договоренности: как только война начала угасать, в феврале 1828 года Мигел отплыл в Португалию, как конституционный регент. Однако, - этого император знать не мог, -
капитан британского корвета, взявшего на борт важных персон, в пути передал принцу приглашение посетить Лондон для важной встречи, и когда в феврале Мигел, разумется, завернув на Остров, наконец, высадился в Лиссабоне, началось непредвиденное. Огромные толпы абсолютистов, встретив принца в порту, объявили его своим королем, - а потом регент, распустив Сенат и Палату представителей, созвал традиционные кортесы, в мае назвавшие Мигела I абсолютным монархом. Маленькой же Марии, прибывшей из Бразилии, даже не позволили высадиться в ее королевстве, прислав на борт уведомление о расторжении помолвки. Слабые попытки застигнутых врасплох либералов погасли в зародыше, - гражданская война не продлилась и месяца, причем несколько раз войска либералов «случайно» попадали под обстрел с британских судов,
а потом многие живые позавидовали мертвым. Вернувшись к власти, «бывшие» во главе с королевой-матерью, державшей любимого сына в ежовых рукавицах, устроил нечто, несравнимое даже с расправами «черных отрядов» короля Фердинанда в соседней Испании пятью годами раньше; современники сравнивали происходившее с подавлением Неаполитанской революции 1799 года, - и хотя упоминаний о варке либералов в котлах и копчении их на вертеле, как в Неаполе, я нигде не нашел, мемуаристы, похоже, не очень преувеличивают. Тысячи людей бежали, потеряв все, сотни, если не тысячи, казнены, и это еще не считая разорванных в клочья фанатичными толпами крестьян, науськиваемых добрыми падре.
Естественно, Педру разгневался. Как отец, он был оскорблен за дочь, как брат, считал Мигела подлецом, как дворянин – клятвопреступником, а как политик понимал, что события ставят под угрозу важнейшую для него идею Mundo Luzitanian - «Лузитанского мира», то есть, единства стран и народов, говорящих по-португальски. А потому, объявив о намерении защищать попранные права маленькой королевы Марии и конституцию Португалии, потребовал у парламента денег на экспедицию. Понятно, парламент встретил требование в штыки, категорически отказавшись оплачивать династические прихоти какой-то европейской династии. Газеты, получив очередную тему, полили очередные помои, - но главное, к императору явился британский посол
с мягкими аргументами против затеи. Лондон, сообщил виконт, конечно, строго нейтрален, а то, что творят «мигелисты» - это возмутительно, ужасно и вообще, черт-те что и сбоку бантик, но Бразилия и Португалия – разные государства, а старая добрая Англия не поощряет вмешательство своих партнеров во внутренние дела зарубежных держав, тем паче, вторжение американцев в Европу. И если Дом Педру не понимает важности соблюдения норм международного права, то… Все было предельно понятно. Англию менее всего устраивало потерять двух слабых, а потому послушных партнеров, взамен получив сильный, а потому потенциально непослушный «Лузитанский мир», Англия не хотела видеть Марию да Глория в Лиссабоне, и у Англии были силы настоять на своем.
Пришлось смириться и решать другие проблемы. В частности, с личной жизнью. Император был молод, а долго вдоветь монархам не положено, - в связи с чем, оппозиционная пресса уже родила новую тему: дескать, вот увидите, сейчас императрицей станет «известная дама из Сан-Паулу, репутация которой вызывает сомнения», и Бразилия будет унижена. Вот-вот объявят, есть точный инсайд из самых-самых верхов. Ничего подобного, однако, не случилось, напротив, близкий друг Дома Педру, виконт де Барбасена уплыл за океан, приискивать достойную невесту, и свободные СМИ сменили пластинку: типа, мол, сейчас-сейчас привезут какую-нибудь немку, и Европа опять будет учить Бразилию, как жить. Palavra de honra! (Слово чести!), с самых-самых верхов есть точный инсайд.
Однако и на сей раз не подтвердилось. Большие Дворы не горели желанием отдавать своих девочек за «коронованного якобинца», - не в последнюю очередь из-за интриг Вены, где Педру ненавидели как за излишний либерализм конституции, так и за Леопольдину. Тем не менее, невеста нашлась: княжеский дом Богарне плевать хотел на мнение Меттерниха, и этот вариант был идеален. Из семьи Бонапартов (а Наполеона в Бразилии чтили), внучка Жозефины (то есть, немного креолка) и баварского короля (то есть, знатнее некуда), и притом к Большим Дворам никакого отношения не имеющая. Более того, - о вкусах Педру мы уже говорили, - как только юная смуглая брюнетка прибыла в Рио и встретилась с будущим мужем, произошло неожиданное: маркиза Душ Сантуш получила указание покинуть двор и вместе с сестрой возвращаться домой, в Сан-Паулу. И…
Голова Бадаро
И нет. Оказалось, тоже нехорошо. Теперь, правда, сокрушались, что не так знатна (Бразилия унижена!). И тем, что император пренебрег «верной любовью благородной дамы из Сан-Паулу» (побрезговал коренной бразильянкой, Бразилия унижена вдвойне!). И тем, что француженка (эти мамзельки те еще штучки, вот увидите, она нарушит все правила приличия, унизив Бразилию). Ну и, конечно, красной нитью: эта нищебродка навезет в Рио голозадых иностранцев, будут наших оттеснять, как при португальцах! Они уже едут, вот-вот прибудут, - от верных людей из Европы пришел точный инсайд.
И в этот бред верили, потому что хотели верить. В сентябре 1829 года, - Амелия еще и трех месяцев в Рио не прожила, - депутаты выразили недовольство «унизительным для Бразилии выбором императора», и парламент тут же был распущен. Естественно, с немедленным назначением новых выборов, однако визг о «тирании» зашкалил за облака, и хотя параллельно Дом Педру сформировал кабинет из коренных бразильцев самой что ни на есть оппозиционной ориентации, это уже ни на что не повлияло. Как пишет Жустину Оливейру, «к началу 1830 года вся Бразилия испытывала к императору антипатию, а порой и ненависть». Правда, с оговоркой, что «среди простонародья популярность его была по-прежнему высока», но мнение простонародья борцов с тиранией никогда не интересовало.
Терпеть такое было невозможно. Даже не монархи в подобных случаях выходят из себя, а Педру был монархом, с очень серьезными полномочиями и достаточно жестким характером, тем паче, что с Амели у них сразу заладилось, и он наконец-то был реально счастлив. Поэтому в самом начале первой сессии нового созыва, в мае 1830 года, император подал в парламент законопроект об ограничении свободы печати, которая не означает свободу лгать. Проект, по сути, крайне умеренный: о политике по прежнему можно было писать, что угодно, но за за личные оскорбления, если автор не мог их доказать, предлагалось ввести крупные штрафы, однако закон был немедленно объявлен «драконовским» и «явным признаком стремления к тирании». Его сравнивали
с куда более жесткими ордонансами Карла X во Франции, Педру - с Мигелом, газетчики, объявив акцию «Não censura!», ходили по улицам с завязанными ртами, депутаты вопили о намерении императора устроить в Бразилии резню вроде той, что брат учинил в Португалии, и вообще, «призывали тень Робеспьера». Иной реакции быть, собственно, не могло, и результаты прогнозировались, но, видимо, у Педру уже сдавали нервы. А в июле во Франции слетели Бурбоны, и эхо, долетев до Рио, взбаламутило Империю. Ибо если в Европе можно, то разве мы не Европа?
Республиканство стало модным. Газеты сорвались с поводка, играя на самых низменных инстинктах, вплоть до раскручивания ненависти к «извечно чуждой нам, презренной португальской нации». Парламент, реагируя на общее настроение, осмелел и пошел уже на прямую конфронтацию, используя право на вотум недоверия кабинету, - и правительства менялись, как в калейдоскопе, не успевая приступить к работе. А потом грянул гром. 20 ноября 1830 года в Сан-Паулу четверо неизвестных убили на улице либерального журналиста Либеро Бадаро, издателя «Observador Constitucional», резко критиковавшего императора. И поскольку за пару дней до того бедолага завершил очередную филиппику очередным «Я знаю, что уж за это меня точно убью клевреты тирана, но я готов возлечь на алтарь Свободы!», СМИ мгновенно взорвались инсайдами.
Всем было известно, что виноват император, лично отдавший «роковой приказ» губернатору Кандиду Жапьясу, и хотя доказательств никаких не было, «чистая публика» в версию поверила сразу и безоговорочно. Никого не насторожил даже тот факт, что первые крики об убийстве начались 23 ноября, то есть, пошли в печать 22, притом, что ни телефонов, ни телеграфов тогда не было и новости из Сан-Паулу обычно шли не меньше 4-5 дней. Этот скандал уже не затихал, напротив, его раскручивали по максимуму, все, из номера в номер, появилась особая, очень резкая газета «Verdadeiro brasileiro» с профилем «Мученика Свободы» и сжатым кулаком на логотипе, приличный салон стал непредставим без его портрета, депутаты с трибуны ежедневно делали запросы о ходе следствия.
Даже в провинции, куда Педру в феврале 1831 года, как было у него заведено, поехал с ежегодной инспекцией, общественность требовала ответить, «За что Вы убили Либеро Бадаро?», а на рудниках, куда император прибыл, чтобы лично объявить о повышении ставок в горной промышленности, заранее накрученные работяги его просто освистали. В Рио же ко дню возвращения монарха, 11 марта, и вовсе гудел дурдом. «Бразильцы» и «португальцы» ( ярлыки чисто политические, без этнической привязки) рвали глотки на митингах. 13 марта «дети Свободы», в основном молодежь и подростки,
с благословения взрослых, вооружившись бутылками из разгромленных магазинов, атаковали банкетный зал, где митинговали «абсолютисты», и после драки, затянувшейся на всю Noite das Garrafadas («ночь бутылок») разогнали «приверженцев тирании», - а тем временем в столицу подтягивались сотни здоровенных пеонов из провинций, направленных дождавшимися своего часа «отцами фамилий», которых встречали палками и камнями такие же парни из предместий, в том числе, черные рабы, среди которых Дом Педру был популярен.
Обстановка вырывалась из-под всякого контроля, - в столице лидеры десятка республиканских фракций, очень друг с другом не ладящие, объединились в координационный комитет «Brasil sem Pedro!» («Бразилия без Педру!»), но император еще пытался остановить лавину. Не желая разгонять буйствующий на улицах молодняк силой, - это же дети `из приличных семей, их нельзя бить, - он 20 марта распустил кабинет и назначил новый, из самых либеральных «бразильцев», поручив немедленно расследовать дело об убийстве Бадаро.
Однако, как выяснилось, министров ни Бадаро, ни выход из кризиса не волновали. Они требовали, чтобы Педру отменил конституцию, вернувшись к «народному проекту» и став «символом единства Империи», - и глава государства, 5 апреля распустив недееспособное правительство, назначил новое, из людей самых разных взглядов, но готовых и способных работать. Естественно, парламент потребовал вернуть либералов. Однако император, ответив знаменитым: «Все сделаю для народа, но ничего под давлением народа», отказался, - и комитет «O Brasil sem Pedro!» дал отмашку на старт давно готового сценария.
Толпы вооруженных горожан и провинциалов, скандируя «Pedro de distância!» («Педру геть!») затопили улицы, 6 апреля «на сторону народа» перешел начальник охраны дворца генерал Францишку Лима с несколькими сотнями солдат, и стало ясно: время уговоров прошло, нужно принимать меры. А варианты были: большая часть гарнизона и части из ближних городов подтвердили верность императору, предместья и черные рабы прислали депутацию, прося раздать оружие, - оставалось только покинуть город и организовать подавление, однако Педру на все предложения ответил еще одним знаменитым: «Престол не стоит крови!», пригласив вождей мятежа на переговоры.
О мотивах его решения пишут разное. Кто-то полагает, что испугался, кто-то уверен, что насчет «престола и крови» сказано от души, а есть и такое мнение, что император, оценив силы и не веря в победу, решил сохранить трон если не для себя, то для Дома Браганца, а что на деле, кто знает? Разве что «испугался» вряд ли (вся его дальнейшая жизнь опровергает предположение о трусости). Но как бы то ни было, переговоры состоялись. После чего 7 апреля Дом Педру I подписал отречение в пользу сына Педру, пятилетнего герцога де Алькантара,
а через две недели, получив подтверждение, что сеньор Бонифасиу де Андрада (надеюсь, помните такого?) получил письмо и готов, вернувшись из Европы, стать опекуном малыша, вместе с женой и маленькой Марией, «королевой без страны», на английском корабле покинул страну. Впереди у Педру ди Браганца, экс-императора и экс-короля было еще много чего, но к Бразилии все это уже отношения не имеет. Эпоха Primeiro Reinado завершилась.
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НА ДАЛЕКОЙ АМАЗОНКЕ (9)
Не брат ты мне
И все же, справедливо было бы хотя бы вкратце проследить за дальнейшим путем Педру, герцога ди Браганца, как он отныне титуловался. Приплыв в Англию, он с удивлением обнаружил, что его там любят, и на то были две причины. Во-первых, отречение автоматически сняло с повестки дня очень не нравившийся сэрам проект «Лузитанского мира», - а лично против Педру никто ничего не имел, - во-вторых же, после долгого засилия консерваторов к власти, наконец, пришли либералы, а им нравились взгляды экс-императора и совсем не нравился кошмар, творившийся в Португалии. Поэтому, приняв гостя по первому разряду, ему сразу предложили вакантный престол только-только решившей быть не республикой, но монархией Эллады. Пояснив, что в Греции есть все, но нет просвещенного, уважающего либеральные принципы короля.
Педру, однако, согласия не дал, сопроводив отказ еще одним знаменитым: «Я не ловец корон», и пояснив, что у него, так уж сложилось, два Отечества, ради которых он живет, а коли так, и коли уж в Бразилии все более или менее нормально, теперь его главная цель – Португалия. Куда он и поедет, если нужно, в одиночку. Воевать за светлое будущее и за престол дочери. Влиятельные сэры с пониманием покивали и сообщили, что Англия – государство нейтральное, с Португалией в союзе, и как бы ни претили приличным людям средневековые изыски Дома Мигела, воевать не будут. Но денег дадут, оружия дадут, корабли дадут, и храбрым британским парням записываться в волонтеры не возбранят.
Это было уже кое-что, а потом пришли приятные новости из Парижа: после падения Бурбонов, всецело методы Мигела одобрявших и завидовавших ему, потому что неплохо бы так же и во Франции, правительство Луи Филиппа смотрело на Португалию с еще большим омерзением, чем островитяне. Так что, вскоре у Педру была и маленькая эскадра, и маленькая, но очень хорошая армия, с которой экс-король и прибыл на Азорские острова, единственный клочок португальской земли, отбившийся от войск Дома Мигела и с тех пор бывших своего рода «освобожденной территорией». А затем, пополнив ряды, высадился на материке, в июле 1831 с налету легко заняв второй город страны, Порту, с сильной крепостью и большим арсеналом.
Власти, однако, отреагировали очень оперативно, стянули войска, пресекли попытку десанта вырваться на оперативный простор, и началась «холодная осада», для запертых в крепости, где не было сделано припасов, очень трудная. С крохотными пайками, без дров, под порывами сырого океанского ветра, в тех краях зимой очень злого. По всем воспоминаниям, Дом Педру в это время проявил себя идеально: ни крошки лишней себе, все на равных, и караул на равных, и на бруствере, когда «мигелисты» шли на штурм, и с ранеными подолгу сидел в лазарете, убеждая в неизбежности победы. Сам по ходу схватил воспаление легких, но, будучи от природы очень силен, пришел в себя, а потом, весной, пришла подмога.
«Вся Европа» следила за «Братской войной» крайне внимательно, - ведь это так романтично, словно в романах сэра Вальтера Скотта! - все дворы, кроме Вены, симпатизировали Дому Педру, а про общественность и говорить нечего. Так что денег по подписке собрали более чем достаточно, чтобы сформировать эскадру, во главе которой встал адмирал Шарль Напьер, для такого случая ушедший в отпуск с документами на имя португальского ботаника Калош де Понза. Эскадра прибыла в Порту, загрузила на борта войска Педру (сам он как раз болел, и командование принял известный генерал-либерал герцог Тейшейра), а затем, мимоходом побив королевский флот при Кабу Сан Винсенте, высадила их на юге, в городе Алгарви, где «мигелистов» не было вовсе.
Далее последовал форсированный марш на Лиссабон, триумфальный вход в столицу 24 июля, а затем 9 месяцев тяжелейшей борьбы: главные города страны подчинились Педру, а сельские, религиозные районы оставались во власти партизан, воюющих за «Бога и Короля, против Диавола и Конституции». В конце концов, чувствуя, что силы иссякают, мигелисты пошли ва-банк: оставив непокоренный Порту, они двинулись на Лиссабон, но были разбиты в сражении при Эвора-Монте, и стало ясно, кто выиграл войну.
Весной 1834 года Дом Мигел, оттесненный от моря в горы, капитулировал. Дом Педру с триумфом привез юную королеву в столицу, занял пост регента и восстановил Конституционную Хартию. А вот учинять «око за око» отказался. Никаких трибуналов, никаких казней и пожизненных казематов, полная амнистия, а брата – в изгнание с пенсией, но лишением права на престол вместе с потомством. А в пояснение – очередное знаменитое: «Иначе это не кончится никогда», и такой либерализм на грани еще не придуманного толстовства либеральную общественность возмутил необычайно.
Либеральная-то общественность жаждала праведного мщения и как можно больше вражьей крови. По спискам. Желательно, публично. Лучше, если небыстрыми дедовскими методами. А если с чадами и домочадцами, еще лучше. И хотя в чем-то людей можно понять, - террор унес близких во многих семьях, - идти на поводу у масс Педру отказался наотрез. Ибо, как и в Бразилии, «Для народа все, но под давлением народа ничего».
В результате, на спектакле, куда герцог ди Браганца пришел с семьей, публика решила его освистать. И даже начала свистеть, - но тут у регента хлынула кровь из горла. Публика смутилась, а поняв в чем дело, - о том, что в морозном Порту их освободитель заработал туберкулез, мало кто знал, - сменила гнев на милость. Регент опять стал популярен, у него была масса планов и замыслов, он вел активную переписку с Рио, где у него, как выяснилось, осталось немало сторонников, и все шло к тому, что его вполне могут позвать обратно, потому что без него трудно.
И казалось, вся жизнь впереди. Но только казалось. После злополучного похода в театр Дому Петро стало плохо, потом еще хуже, и примерно через месяц с небольшим, 24 сентября 1834 года он умер во дворце Келуш, в той же комнате, где появился на свет, не дожив до 36-летия две недели и два дня. По словам священника, последними его словами были: «Как бы я хотел увидеть маленького Педру. Как бы я хотел, чтобы он меня помнил. Как бы я хотел, чтобы Бразилия меня не забыла…».
Маленький принц и лучшие люди
Из трех предсмертных желаний сбылось два. Дом Педру ди Алкантара Жуан Карлуш Леополду Салвадор Бибиану Франсишку Шавьер ди Паула Леокадиу Мигел Габриэл Рафаэл Гонзага ди Браганса и Аустрия, а проще – Педру II, не помнивший маму и почти не помнивший отца, любил родителей и всю свою долгую жизнь чтил их память. И Бразилия тоже помнила. Сразу после отбытия бывшего императора в Европу газеты сбавили обороты, потом, понемногу, интонации изменились, критика ушла, Педру I поминали добрым словом, - как молодого Принца Независимости, как автора прекрасной (ни у кого таких нет!) конституции, как монарха, отказавшегося цепляться за власть ценой крови, -
однако поминали негромко и нечасто. У победителей было слишком много других, куда более важных дел: они дорвались до власти, и теперь эту власть нужно было как-то обустроить, но сначала поделить. И делили, для начала постановив, что монархия останется, против чего не стали возражать даже самые еще не так давно яростные республиканцы из элиты Рио. Избавиться от крохотного императора, - не убить, конечно, а выслать вслед за папой, отменив, как утратившие силу, договоренности с бывшим императором, было легче легкого, но…
Но светленький мальчик, очень ласковый, добрый, воспитанный и напуганный, был нужен. Как символ. Потому что теперь, когда дело было сделано и комитет «Brazil sem Pedro» явочным порядком распался, все понимали, что один-единственный неверный шаг, и клочки полетят по закоулочкам. Ибо «улица», которой обещали после свержения всего плохого дать все хорошее, интересовалась, когда же это всё будет. Требовали обещанного отказа от выплат по «английскому долгу», - то есть, понижения налогов. А как можно ссориться с Лондоном? Требовали отказа от внутренних таможен. А как можно ссориться с провинциальной аристократией? Требовали отмены рабства. А как можно отменять рабство, если рабочих рук не хватает?
Да и вообще, попробовав воли, столичная улица много чего требовала, и это следовало пресечь, параллельно не оттолкнув и не обидев «фамилии», дабы те вновь не решили, что республика лучше и не взяли «столько суверенитета, сколько сумеют унести». А как, никто не понимал. При «тиране» было легче, он брал всю ответственность на себя, а теперь получалось, что надо самим, и никуда не денешься, придется.
Поэтому светленького мальчика оставили в покое, на попечении прибывшего из Европы сеньора Бонифасиу де Андрада, а на поклонников федеративной республики a la США, цыкнули. Впрочем, самые умные из них, вроде того самого Диогу Антониу Фейжу, и сами заявили, что всему свое время, и теперь их следует считать конституционными монархистами, - а посты распределять было уже легче.
Ну как легче… Хотелось всем, но, скажем, генерал ди Лима, изменивший присяге и обеспечивший либералам военную поддержку, никем, кроме как военным министром и одним из регентов стать просто не мог, и сенатор Кампуш Вержейру, и маркиз ди Каравелас, один из самых щедрых спонсоров оппозиционной прессы, в общем, пустые балаболки, заняли посты в Регентском совете потому, взбаламученная «улица» их на тот момент обожала, а «улицы» новые хозяева страны пока что, на первых порах побаивались. Тем паче, и программа
у генерала, сенатора и маркиза, вполне совпадала: революция кончена, массовке следует расходиться по домам, а мудрые и дальновидные люди поведут страну в светлое будущее. Для чего нужно, во-первых, снять со всех постов португальцев, чересчур засидевшихся в мягких креслах, - и сняли, - во-вторых, заполнить вакансии честными революционерами по рекомендации уважаемых бразильцев, - и заполнили, - а в-третьих…
А в-третьих, ничего. Первых двух пунктов вполне достаточно. А чтобы объяснить обществу, что от добра добра не ищут, для начала оклеили весь Рио плакатами: все в порядке, братья и граждане, всего добились, все по домам, мы вас не подведем. Затем, поскольку толпы, ставшие хоть и поменьше, но гораздо злее, продолжали чего-то хотеть, 5 июня приняли закон, расширявший полномочия полиции на арест по политическим мотивам, включая сплетни и анекдоты про власть, - абсолютно невозможный при «тиране». Вдогонку еще один –
запрет на ночные собрания и на несогласованные с властями шествия, что «тиран» тоже счел бы полным безумием. Затем «безоговорочно подтвердили» договор Педру с Англией о запрете ввоза в страну рабов (тот самый, за который, как за «вредную стране уступку» грызли императора) и даже постановили, что «любой раб, ступив на бразильскую землю, становится свободным». Через силу, конечно, скрепя сердце, - но не ссориться же с сэрами,
а закон, он ведь как дышло, если не лчень пристально следить за исполнением. И наконец: закон о срочном формировании Национальной Гвардии из «сторонников порядка» (бывший «детей Свободы») и «добровольческого полка» из сельских участников свержения «тирана», желающих обосноваться в столице. Крайне необходимая новация, ибо солдаты, ежели что, могут дрогнуть, а эти будут бить любых несогласных только так.
Мимоходом перетряхнули состав регентского совета, убрав уже никому не нужных балаболок и поставив регентами солидных юристов, связанных с солидными «фамилиями» и ни на что, кроме гонораров, не претендующих. Центром власти стало правительство, формируемое парламентом при формальном согласии Регентского совета, а в правительстве на первый план довольно быстро выдвинулся министр юстиции, уже известный нам Антониу Диогу Фейжу. Бывший пылкий республиканец, а ныне, войдя во власть, конституционный монархист,
он, в отличие от многих коллег, по крайней мере, имел мозги, волю и понимал, что всего один неверный шаг, - и страна развалится на десяток республик. Ну а генерал ди Лима, естественно, остался в составе, ибо понимал все правильно. Что и подтвердил в июле, когда те же толпы, которые свергали Педру, явились к парламенту с вопросом: «Если тиран бежал, а все как раньше, что же изменилось?». Суть времени уличным активистам, желавшим странного не по чину, разъяснили жестко, на поражение, и министр юстиции, выступая в парламенте, объяснил, что это законно,
а регенты единогласно утвердили «особое положение». После чего в течение года разъяснения повторялись еще четырежды (в отличие от Педру, либералы чужой крови не боялись), и в конце концов, столичная чернь (включая мелких и средней руки торговцев) успокоилась, осознав, что на дворе не «эпоха тирании». А пока непонятливым всех мастей и статусов объясняли их место в истории, солидные господа учились играть в игры без правил, вырабатывая правила на ходу.
Без руля и без ветрил
В бразильской национальной историографии эти несколько лет именуются «Эпохой Хаоса». Активные болтуны, либо никого, по сути не представляющие, но жадные до денег и славы, либо послушно звучащие под диктовку групп влияния, считали себя пупами земли, но, ничего в жизни не создав, не знали, что делать с огромной страной, доставшейся им, в общем, случайно. Море красивых слов, пышные позы, дикие амбиции, - и ничего больше. И никакого Дома Педру с его «четвертой функцией», позволявшей главе государства ударить кулаком по столу и сказать: «Я так решил, и так будет».
То есть, формально, по конституции, функция эта никуда не делась, она была. Но в исполнении «трехглавой гидры», как прозвали газетчики Регентский совет, - притом, что головы ненавидели друг друга, - контролировать то, что называлось «работой парламента» было некому. Неудивительно, что подняли голову монархисты «старого образца», опиравшиеся на поддержку Государственного совета, члены которого были назначены императором пожизненно.
Будучи либералами, - а не либералов в бразильском политикуме и не числилось, - они указывали на то, что как бы ни была хороша конституция, но без серьезного главы государства, уважающего Основной Закон, но умеющего брать на себя ответственность, не обойтись. А стало быть, нужно писать Дому Педру, доказавшему в Европе, что он реальный либерал, просить прощения и приглашать назад. Во имя порядка.
Идеологом этого, в общем, разумного мнения стал сеньор Бонифасиу, опекун маленького императора, имевший в обществе огромный вес, как один из провозвестников независимости и её отцов-основателей, да еще и еваропейское светило. Для уютного хаоса это было опасно, и депутаты, вовремя почуяв неладное, в 1833-м лишили старика должности, буквально силком оторвав от плачущего Педру II, которого передали на сомнительное попечение регентов, - то есть, по большому счету, никому.
Впрочем, после безвременной смерти в Лиссабоне бывшего императора, обращаться стало не к кому, и монархисты «крайние» присоединились к просто монархистам, отстаивая право провинций не плясать под дудку бестолкового центра, руководимого «последовательными либералами», считавшими, что любое их распоряжение должно выполняться всеми и без пререканий. А что самое неприятное, никто не мог ни с кем ни о чем договориться. В итоге, в провинциях вновь заговорили о республике и самостийности, как выходе из кризиса, и поскольку местные элиты совершенно против такого варианта не возражали, страна оказалась на грани распада.
Более того: в полном соответствии с законами физики, которые непреложны, - а точнее, с Третьим законом Ньютона, - на «Ау!» сверху пошел отклик снизу. Ибо революцию нельзя остановить на «Ать-два!». И появились exaltados, - восторженные, - которых в Португалии и Бразилии, в отличие от Испании, раньше не было. То есть, самые левые либералы, не просто «республиканцы ради Республики», а с уклоном в народничество, если вообще не в стихийный социализм, - более всего близкие к идеям Робеспьера, да и опирающиеся примерно на тех, на кого опирался Неподкупный.
Мелкий городской люд, торговый и ремесленный, пеоны, даже городские рабы, - короче говоря, все, кто чего-то от много обещавших депутатов ждал, но ничего, кроме беглого огня на поражение в Рио не получил, и теперь, справедливо заявляя, что «Революцию украли!», требовал очередного Майдана. А поскольку в столице эту отчаянную публику прижали крепко, сильны они были опять же в провинции, где «отцы фамилий» совершенно им не мешали, напротив, подыгрывали, ибо понимали: ежели что, именно эти горлопаны обеспечат им необходимую массовку.
Тем не менее, ситуация в Бразилии все-таки отличалась от безысходных кризисов систем, полностью исчерпавших ресурс и сгнивающих на корню, как во Франции к 1789-му или в России к 1917-му. Общество развивалось, переживая болезни роста, позитивный потенциал был огромен, и соответственно, в политикуме существовали силы, понимающие, что бардак нужно приводить в порядок, - и во главе их стоял Диогу Антониу Фейжу, бессменный министр юстиции, пользовавшийся огромным авторитетом.
Понемногу, с трудом, он и его группа поддержки разъясняли коллегам, что развитие Бразилии гарантировано только ее единством, - в противном случае, все вместе рухнут в ту же пропасть, что и бывшие испанские колонии, превратившиеся в нищающие поля разборок между генералами, и к нему прислушивались. Тем паче, что недовольство провинциальных «отцов» становилось все более внятным, а пропаганда «экзальтадос», звавших Бразилию к топору, многих пугала.
В итоге, после трех лет напыщенных дискуссий пришли к консенсусу. 12 августа 1834 года был принят «Дополнительный акт» к конституции: полностью порвали связи с Португалией, объявив на случай чего наследницей Педру не старшую сестру, королеву Марию, а младшую, Жануарию, выросшую в Рио, Госсовет упразднили, став высшей властью без оговорок, зато каждая провинция превращалась во что-то вроде тогдашних штатов США. Свое законодательное собрание (с депутатским иммунитетом), свои законы (включая насчет ввозить или не ввозить рабов), свое правительство, своя система налогообложения, своя судебная система, свои силовые структуры и так далее.
Полное собрание сочинений. Обязанности перед Рио – только платить долю в общак, не вести собственную внешнюю политику и поставлять рекрутов. То есть, фактическая независимость, кроме разве права на выход из федерации, вроде как у Чечни и Татарстана в составе РФ. Да еще губернаторов, как раньше, назначал центр, но в новых условиях они стали марионетками, символизирующими формальное единство страны.
Ход, безусловно, умный, эффективный, снявший много проблем. Теперь, - притом, что на местах «отцы» были всевластны, при имущественном цензе, отсекавшем смутьянов, притом, наконец, что до совершеннолетия Pedrito оставалось еще много лет, - провинциальные царьки были, в основном, удовлетворены, и стало быть, единство страны гарантировано.
А чтобы в новой ситуации не упустить вожжи, парламент, наступив на горло собственной песне, 7 апреля 1835 года реорганизовал бессмысленный регентский совет, учредив пост единственного регента с императорскими полномочиями, - то есть, реальный орган той самой «четвертой функции», которую требовали вернуть монархисты, - а регентом, естественно, избрали сеньора Диогу Антониу Фейжу. И все бы хорошо, но случись это раньше, было бы еще лучше, потому что лавина, запущенная в «эпоху хаоса» уже набрала разгон…
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НА ДАЛЕКОЙ АМАЗОНКЕ (10)
...он и в Бразилии акбар
Если кто-то думает, что депутаты расстались с удобной «трехглавой гидрой», отдав власть человеку твердому и жесткому, легко и просто, он ошибается. Они очень этого не хотели, притом, что все чувствовали: жизнь требует. И жизнь заставила: в начале 1835 года в Сан-Сальвадоре, столице Баии, восстали негры. Такого раньше не бывало никогда, во всей испанской и португальской Америке. Ко всяким бучам, конечно, примыкали, но не как отдельная сила, а в индивидуальном порядке. Просто потому, что даже в самых непростых районах, на плантациях, бразильское рабство было гораздо мягче, патриархальнее североамериканского, и до крайностей не доходило.
Как максимум, сбегали в леса, создавая укрепленные сечи-«киломбо», но власти не особо даже старались беглую чадь вернуть, а вот она зачастую возвращалась, потому что в сельве жилось нелегко, а индейцы черных не любили, считая «тоже белыми», и тех, кто возвращался, наказывали не очень строго. А тут реальный мятеж. Но, правда, имелся нюанс. Рабы были не местные, а недавно завезенные, чистой воды контрабанда, бывшая в то время в порядке вещей, ибо правительство, приняв (против Лондона не попрешь) закон о запрете ввоза чернокожих, само же его саботировало, дабы не ссориться с фазендейру. Просто закрывало глаза.
Так что, в 30-х годах в страну ежегодно ввозилось около 40 тысяч невольников, о чем не полагалось говорить вслух. Откуда свежие негры? Аллах послал, - и все. Дело считалось крайне выгодным, но и очень опасным: суда под «Юнион Джек» патрулировали Атлантику, перехватывали работорговые суда, м если уж брали с поличным, счастливы были капитаны, которых не подводили под статью о пиратстве с неизбежной петлей в итоге. Поэтому рисковые моряки, стараясь вилять, избегали традиционных маршрутов, закупая живой товар не только у традиционных партнеров в португальской Анголе,
но и где придется. В частности, и в Гвинее, где как раз тогда наводили порядок явившиеся под зеленым стягом Ислама сахарские марабуты, воины-дервиши, по взглядам крайние радикалы. Чаще им везло, реже – нет, и когда не везло, местные царьки, естественно, сбывали ценную добычу белым, - ну и вот, одну из партий черных мусульман, не освобожденных сэрами, Аллах послал в Баию, и условия жизни в новых местах им совсем не понравились. Во-первых, мале (так называли почитателей Корана в Бразилии) были воинами, а не терпилами, но это полбеды, главное, что неверные их, как полагалось, заставляли креститься. Ибо непорядок.
Ну и как-то так вышло, что духовный лидер довольно серьезной (несколько сотен) уммы, раб Саним, во крещении Луис, знавший Коран наизусть, стакнулся со свободным негром Элисбау ду Карму, табачным торговцем и экзальтатос по убеждениям, а познакомившись, убедил его, что истинное равенство возможно только под знаменем Пророка, - и правоверные начали готовить джихад. Около года Саним разъяснял пастве, что раз уж они оказались в Америке, стало быть, Всевышний послал их, как авангард Армии Ислама, а Элисбау (уже Абдулла) запасал оружие и добывал информацию, а затем в ночь с 25 на 26 января, воколо 300 марабутов вырвались из казарм. Общий план: соединиться с другой группой мале и захватить окрестные фазенды, призвав черных встать на Путь Истины.
По пути, натурально, вскрыли тюрьму, убили двух охранников и освободили уголовников, белых и черных, но те вливаться в ряды не захотели, а просто разбежались кто куда. Затем подоспели солдаты, и после получасового боя на окраине города джихадисты, дрогнув, рассыпались. Кто-то в кусты, где их расстреливали и кололи штыками, кто-то в океан, захлебываясь в высоком прибое. По итогам, около сотни погибло, вдвое больше повязали, высекли и вернули в казармы, четырех лидеров расстреляли на месте, а крайне шокированная общественность, - про Гаити помнили все, - потребовала от властей принять меры, чтобы ничего подобного больше не случалось.
Меры, естественно, приняли, и вполне разумные: мусульман впредь насильно не крестить, больше трех десятков вместе не держать, избранного ими муллу обязать следить за порядком под страхом наказания. Но сам по себе факт напугал общество сильно, а парламентарии поступились частью власти, избрав единоличного регента. Вот только реальной проблемой страны на тот момент были совсем не черные, а общее социальное недовольство, проникшее до самых глубин коллективного подсознательного. Столичная-то власть ломала устои, строя капитализм, и все бы ладно,
вот только капитализм этот строился в Рио, да в Сан-Паулу, да еще в паре-тройке перспективных зон, а громадная страна за переменами никак не поспевала. И в общем, не особо хотела поспевать: старые ленивые традиции в провинциях устраивали если не всех, то очень многих. Да, конечно, «отцы» - боги и цари, их «капанга», личные армии, их связи с разбойниками-жагунсо, контроль над судами и депутатами не оставляли простора для дискуссий. Да, безусловно, «агрегадос» (прикрепленные) и «морадорес» (поселенцы) – фактически, крепостные. Все так.
Но, с другой стороны, патриархальная традиция предполагала обратную связь: любой арендатор в любой момент мог обратиться к «отцу» за помощью и защитой, и та же традиция запрещала «отцам» не отозваться. А гуртовщики и пастухи («вакейро») и вовсе жили далеко от хозяев в бескрайних равнинах, где проследить за ними было трудно, а наказать, учитывая нравы, еще труднее, в связи с чем, степные кентавры считались кем-то типа вассалов «отца», имеющих свою долю от стад.
Причем, держалось все не на документальном оформлении, но на традиции, на честном слове, на рукопожатии, и нарушителя, какого бы ранга он ни был, ждало общественное отторжение, в таких обществах равное политической смерти . И весь этот вековой ход вещей внезапно зашатался под ветром перемен, причем обиженными «сеньорами из Рио» оказались очень многие, - мелкие торговцы, заводчики, ремесленники, арендаторы, пастухи, - и так далее, включая фазендейру средней руки, которыми «отцы» провинций после Дополнительного акта начали помыкать. Хотя, надо сказать, и «большие отцы», чувствуя настроения на местах, старались их правильно канализировать, дабы не попасть по колесо самим, а Бог даст, и выцарапать у Рио еще чего.
Бунташный век
Ну и грянуло. Тоже в январе, но сперва в такой глуши, что не сразу и стало известно, - в огромной и слабозаселенной провинции Гран-Пара-и-Мараньян. Когда-то, при португальцах, один из двух равноправных субъектов Бразилии, она жила нехудо, теперь же, когда все решения принимались на юге, став фактически внутренней колонии, пришла в последнюю степень упадка. До такой степени, что большая часть населения (70% из 50 тысяч - индейцы, метисы и беглые рабы) жила в сabanagem - гнездах, оборудованных на деревьях.
В такой обстановке к выводу, что так жить нельзя, не прийти было просто невозможно, и 7 января 1835 года плебс Белена, центра провинции, по призыву экзальтадо Антониу Винагре и либерального жагунсо Эдуарду Франсиску Ногейру (позывной «Анжелим» - «ангелочек») вымел из города правительство, постановив не платить никаких налогов. На шум сбежалась округа, и вскоре вся Пара оказалась под контролем беленских «комиссаров», причем белая элита, включая мелких фазендейру, которую никто не обижал, ничуть не возражала.
Правда, власти, действуя энергично, стянули войска, блокировали Белен и 6 июня отбили его, но дуумвиры сумели вывести основную часть своих бойцов на север, к Амазонке, где их поддержали индейцы, оттесненные в джунгли и злые на весь белый свет, - а потом, передохнув, вернулись уже с тремя тысячами разноцветных бойцов и в августе, разгромив карателей, вернули контроль над Беленом. Антониу Винагре при этом не повезло, он погиб при штурме, зато Анжелима избрали президентом Республики Пара, заявившей, что пока император мал, жуликам и ворам из Рио подчиняться не намерена, и выстоявшей почти девять месяцев, несмотря на постоянно поступающие противнику подкрепления и эпидемию оспы.
Вполне вероятно, продержалась бы и дольше, однако начались раздоры. Не между белыми и не белыми, как, возможно, кто-то думает, а между теми, кому было что терять, и теми, кому терять было нечего. В итоге, 13 мая 1836 года республиканцы ушли на север, кто-то опять до Амазонки, кто-то в леса, где и бродили еще года три, постепенно выродившись в жагунсо без намека на политику, а в общем, все эта «Cabanada» («война лачужников»), на финише бессмысленная и беспощадная, стоила провинции от 30 до 40 % населения, а в цифрах, от 30 до 50 тысяч душ.
Практически одновременно, - бои за Белен шли вовсю, - полыхнуло на крайнем юге, в Риу-Гранди-ду-Сул, где тлело уже давно, но там расклад был иной. Эта провинция, - сплошь степи, как в соседнем Уругвае, жила на 90% за счет скотоводства, и рабов там было совсем мало. На земле, естественно, «отцовской», трудились люди вольные, по найму, а гаучо, гуртовщики, в отличие от северных «вакейро», пасли свои стада на хозяйской земле, как компаньоны. Купцы же и ремесленники ориентировались, скорее, на близкий Монтевидео и Байрес, а также и прямо на Европу, чем на далекий, назойливо лезущий в карман Рио, к тому же силком забривающий местных в армию.
Плюс к тому республиканские идеи, несомые ветерком из Уругвая, всегда готового сделать Империи пакость, и Аргентины, ибо чем Империи сложнее, тем ей легче. Плюс непропорционально много эмигрантов из-за океана, республиканцев всех мастей, бежавших от расправ, - яростный карбонарий Тито Ливио Дзамбеккари, знакомец самого Мадзини, издавал даже газету «Республиканец», открыто призывающую к «отделению и счастью».
Да и вообще, быть за «соборную Бразилии» считалось неприличным даже на ментальном уровне:
очень богатые, покруче северных «сахарных королей», фазендейру юга со всеми их мясокомбинатами, в элитах Империи тем не менее, считались парвеню, их называли «farrapos», то есть, оборванцами, ибо почти не имели рабов. А в Бразилии вес человека определялся именно по числу невольников, и будь кто-то хоть миллионером и царьком с армией, его всерьез не принимали. И это тоже очень обижало.
Короче говоря, восстание готовилось года два, всей провинцией, в трогательном социальном единении, - и 21 сентября 1835 года отряды повстанцев во главе с полковником Бенту Гонсалвисом да Силва, местным фазендейру и крайне левым либералом, без всякого боя заняли Порту-Алегри, столицу провинции. Тут, правда, выяснилось, что не все продумано. Значительная часть «оборванцев», с деньгами и образованием, полагала, что теперь, показав силу, можно и поторговаться, поскольку на севере тяжелые сложности, и самое время говорить с регентом о компромиссе, ничем не рискуя и ничем не поступаясь.
Люди были влиятельные, авторитетные, убеждать умели, так что ружья приумолкли и переговоры начались, а тем временем самые здравомыслящие, связавшись с Рио и получив гарантии исполнения своих требований, 15 июня 1836 года устроили в Порту-Алегри мятеж и впустили правительственные войска. Одновременно полевую армию «оборванцев» атаковали значительные силы правительства на севере, и в какой-то момент стало тяжко: большой отряд «оборванцев», прикрывавший отход, был окружен и разоружен. В плен попал и Бенту Гонсалвис (правда, никого не расстреляли, - регент Фейжу не жаждал крови, - но пленных отправили на север, а их генерала закрыли в Баие, в крепости).
Однако перелома не случилось. Уступки, на которые соглашался регент, выглядели мизерными, а основная часть полевой армии «оборванцев» все же отошла в порядке, а вскоре ряды многократно выросли, под их контролем оказалась практически вся провинция, и 11 сентября в городе Пиратиним торжественно объявили независимость Республики Риу-Гранди-ду-Сул. Президент, понятно, Бенту Гонсалвис, а поскольку он в плену, временный президент — Жозе Гомес Васконселус Жардим, врач и журналист. По факту, Бразилий стало две: Империя на севере, республика на юге, и у каждой свои проблемы.
Естественно, все это не укрепляло позиции регента. Сеньор Фейжу, безусловно, был сильный и мудрый политик, он понимал экономику, первым почквствовал, насколько перспективным может стать кофе, раньше чем Штаты, дошел до мысли о массовой «белой» иммиграции, привел в порядок парламент, сделав из шоу попугайчиков нечто работоспособное. Он всерьез взялся за воспитание юного императора, совсем заброшенного «трехглавой гидрой», и добился отменных результатов. Наконец, именно с его подачи либералы и консерваторы, ранее думавшие сердцем, начали формировать нормальные партии, с уставом и программой.
Однако склоки гремели дикие, фракции бранились, дрались, дуэлировали, вождизм цвел буйным цветом, - и поскольку регент был либералом, под него копали, упирая на то, что в мирное время лучше не придумаешь, но… Но во время Смуты нужна сильная рука, - вроде генерала Педру Араужо Лимы, успешно подавившего «Кабанаду». Звучало логично и напористо; 19 сентября 1837 года Диогу Антониу Фейжо подал в отставку, передав полномочия бывшему военному министру, публично (как писали СМИ) «бросившему вызов Судьбе», и Судьба приняла вызов: вслед за югом загорелся север: в ночь на с 6 на 7 ноября, - новый регент еще только разбирал дела, - восстала Баия.
Мальчик из ларца
Замутили сюжет, ясен пень, опять экзальтадос. Мулат Сабину Виейру, очень левый журналист и лучший врач Сан-Сальвадора, посещая в крепости Бенту Гонсалвиса, взялся устроить ему побег, и устроил. Однако решив идти дальше, когда жангада с беглецом отчалила, держа курс на юг, вышел с побратимами на площадь, призвав город к восстанию. А город откликнулся. В основном, низы, но и «лучшие люди», работорговцы и контрабандисты,
выяснив, что сеньор Сабину насчет освобождения рабов даже не думает (да и кто бы из местных, пусть и «восторженных», после бунта мале думал?), мешать не стали. Просто отошли в сторону. А гарнизон и вовсе поддержал, - после чего возникла независимая Республика Баия, со своим флагом, армией и правительством. И независимость, и республика, как в Паре, декларировались временно, пока Педру II не подрастет, - но до тех пор никакого подчинения Рио и его назначенцам.
Равнодушие к проблемам негров, правда, откликнулось равнодушием сахарных плантаций, поддерживать горожан с их дурацкими лозунгами чернокожие не пожелали, а обычных поселян в округе было не так много, и Сан-Сальвадор вскоре оказался в двойной блокаде. И тем не менее, республика радикалов выстояла аж до 16 марта 1838 года, когда войска, присланные из центра, взяли город штурмом. В ходе боев погибло примерно по тысяче душ с обеих сторон, мятежную мелочь судил трибунал, поставивший к стенке 28 человек, за что был прозван «Кровавым судилищем»,
даже из «чистой публики» троих «министров» расстреляли, троих, в том числе, Виейру, закатали в места не столь отдаленные. Но кое-кому удалось прорваться и уйти на юг, к farrapos, которым вся эта «Sabinada», оттянув на себя внимание и войска правительства, пришлась более чем кстати, а войскам, даже не передохнув, пришлось идти дальше на север, в провинцию Мараньян, где тоже началось.
Примерно как в близкой Паре и примерно потому же. Хотя и без совсем уж убийственной нищеты, но налоги и взяточничество достали всех, и у мелкого люда, - тех же вакейруш, арендаторов и прочих, - лопнуло терпение. К тому же, жил в одном из городков на реке Игуаре некий Мануэл Франсиску дос Анжус Ферейра, - не эксальтадо и вообще неграмотный, просто корзинщик, так и прозванный «Вalaio» (корзина), но мужик с авторитетом, - и все, что было дальше принято называть «Balaiada». Поговорили, помозговали, и начали брать власть в свои руки.
Сперва, в 1838-м, в долине Игуары. Потом, в мае 1839 года, когда Косми, лидер местных «киломбо», привел три тысячи черных сечевиков, и толпа инсургентов зашкалила за 10 тысяч, окружили, а 1 июля заняли Кашиас — второй по величине город в провинции. Естественно, создали жунту во главе, разумеется, с Анжусом Феррейрой, Генералом Бедных, но поскольку грамотных среди бедных не имелось вовсе, министрами назначили городских, -
активистов местной республиканской партии «Бемтеви», легальной, а в политическом плане весьма умеренной и аккуратной. Люди все как один ученые, в очках, умные слова знают, Балайа перед ними робел, а партийцы, разъяснив Генералу, что мирному процессу альтернативы нет, начали долгие, муторные переговоры с президентом провинции, генералом Луисом Альвисом де Лима гарантируя порядок в обмен на реформы. Очень приемлемые, про землю и рабов ни слова.
Переговоры шли в обстановке полного взаимопонимания, медленно, нудно, уважительно, с многократной шлифовкой формулировок, а тем временем армия, или то, что этим словом называли, перегорела. Ничуть не солдаты, повстанцы хотели понять, что дальше, камо грядеши и ради чего, но их Генерал не знал ответов, а господа в очках с полным уважением, как равным, артикулировали в том духе, что имплементировать модальности, адекватные конгруэнтности социальных иллюзий контрпродуктивно.
В итоге, воинство начало распадаться на отряды, командиры которых знали, чего хотят. Начались налеты на фазенды, грабежи, раздел и передел «точек», «стрелки» и перестрелки, испуганные «бемтевисты», объявив происходящее «инициативой отдельных экстремистов», срочно заключили с властями мир. После чего, генерал Альвис де Лима атаковал Кашиас, взял его и начал приводить в чувство «безответственные элементы», к исходу 1840 года добив последних полевых командиров, окончательно ушедших в уголовный беспредел, и заработав, помимо титула барона Кашиас, репутацию лучшего полководца Империи.
А на юге, наоборот, везло республиканцам. Их армия набралась опыта, пополнилась волонтерами всех мастей из Уругвая и Европы, - аж сам Гарибальди срочно примчался и возглавил ВМФ, - а когда издали закон об освобождении рабов, делом подтвердивших верность идеалам республики, армия Риу-Гранди-ду-Сул, крепко почернев, выросла вдвое. В 1839-м удалось даже вынести войну за пределы хоумленда, в соседнюю провинцию Санта-Катарина,
сделав город Лагуна, взятый 24 июля, столицей союзной Республики Жулиана, а республиканцы двинулись дальше, на Дештерру, центр провинции. Однако сил не хватило; наступление захлебнулась, 15 ноября Лагуна пала, Республика Жулиана умерла не прожив и пяти месяцев, но при попытке развить успех на территории республики, потерпели тяжелое поражение уже войска Империи, и фронт замер.
И это только самое-самое. А вообще-то, по мелочи, волна катилась по всей стране, но регент как-то справлялся, и его успехи консерваторы использовали, чтобы ударить по крайне нелюбимому ими федерализму. Ибо типа вот дали волю регионам, и сами видите, что вышло. И ладно бы еще кровь, но ведь какая нагрузка на бюджет! И кто виноват, господа либералы? Господа либералы смущенно отмалчивались, и в мае 1840 года послушно проголосовали закон, сильно урезавший права провинций, щедро предусмотренные Дополнительным актом. Не то, чтобы вовсе под корень, но свободу законотворчества кастрировали, а марионеточная власть губернаторов стала реальнее. Все это, укрепив позиции регента, привело его к мысли распустить палату, и депутаты обеспокоились:
сеньор Араужо де Лима характером был крут, власть любил, и очень многие подозревали, что новых выборов он не планирует, а планирует стать каудильо, на манер испаноязычных соседей. В связи с чем, 23 июня, в день, когда регент собирался заявить о роспуске, сразу же после начала заседания кто-то предложил палате объявить пятнадцатилетнего Педру II совершеннолетним, и взмыл лес рук, без единого голоса против. Крыть регенту, в мгновение ока ставшему бывшим, было нечем, а спустя несколько минут светловолосого подростка, заранее тайно привезенного в здание, привели к присяге.
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НА ДАЛЕКОЙ АМАЗОНКЕ (11)
Коротко - на вопросы.
В первый том "Латинской Америки" предполагаю включить очерки о Гаити, Бразилии, Аргентине, Уругвае и Парагвае. По объему, прикидочно, два тома, но, возможно, и три, потому что, если Уругвая и Эквадор можно проскочить вкратце, то одна Мексика боюсь подумать, на сколько потянет. По времени, как и с Африкой, предполагаю тормозить на 1914-м, - дальше тоже интересно, но это уже иные времена. А насчет времени выхода не знаю. В отличие от Эксмо, где издают скверно, а гонорары оскорбительно малы, издательство, взявшееся за эти циклы, устраивает меня более чем, но частить не может, так что, в этом году - Африка, а следующем, надеюсь, Болгария (опять-таки два тома), а так будет видно.
Дяди и Петя
Избавление от властного регента-консерватора либералы сочли своей крупной победой, ибо неопытный подросток, по их мнению, не мог представлять серьезной угрозы большинству палаты. Но ошиблись. Безусловно, Дом Педру II, официально коронованный в следующем году, 18 июля, был юн и неопытен, - но с мальчиком, на которого большинство много лет почти не обращало внимания, очень хорошо работало консервативное меньшинство.
Малышу с раннего детства, как только отец покинул страну, объясняли: Ваша Власть, Vossa Majestade, не от Бога. Она (вот что сказано у Руссо!) результат общественного договора, - а это больше, чем если от Бога. Вы – символ Государства и символ Народа. Потому что Вы – Браганца, а Браганца – это Честь и Долг. Разумеется, Вы, как и всем мы, - слуга Конституции, но именно Вы – «четвертая функция». И ежедневно: когда Вы подрастете, Вы и только Вы будете выслушивать мнение народа, который всегда спорит, и принимать решения. Это несравненное право, но и ответственность Ваша будет огромна,
- и самое главное, Вы должны не позволить развалить страну. Иначе будет, как у наших соседей, говорящих по-испански: хаос, насилие, беззаконие, а хуже этого нет ничего. Запомните, О Рríncipe, крепко запомните: наше Отечество – Бразилия, в единстве Бразилии – залог светлого будущего, а всякие «Рatria Рaulista» или «Рatria Вahiana» - путь в пропасть. И Ваш батюшка хотел бы видеть Вас тем, кем сам не сумел стать, ибо был слишком европеец.
Короче говоря, в специфических условиях страны, где либерализм защищал традицию, а республиканство играло роль ширмы для автономизма вплоть до сепаратизма, «паровозами прогресса» парадоксальным образом оказались консерваторы, - в экономике те же либералы, но сторонники единства во имя развития. И они, дальновидно взяв под опеку мальчишку, от младых ногтей учили его осознавать себя не божком, которому все можно, но арбитром нации и гарантом баланса.
Первые зерна в готовую принять все, что угодно, почву бросил еще сеньор Андрес Бонифасиу, бывший для осиротевшего ребенка, пока его не выгнала «трехглавая гидра», самым близким человеком. Затем в том же направлении наставлял будущего монарха сеньор Диогу Антониу Вейжу, - и восприимчивый, скромный, умненький, любознательный Педру впитывал. А взрослея,
задавал вопросы, понемногу начиная понимать, что такое фундамент, а что такое надстройка, и чем они отличаются друг от друга. В связи с чем, ничего удивительного в том, что теперь, официально став «четвертой функцией», - властью над властью, - юный император ориентировался на тех, кто год за годом объяснял ему, что такое хорошо и что такое плохо.
Благо, имелась у них и четкая программа. Еще до коронации, в ноябре 1842 года, восстановили упразденный Государственный совет, 12 членов которого назначались императором пожизненно, затем расширили права полиции, а 1 мая 1842 года Педру II объявил о роспуске уже казавшейся бессмертной Палаты депутатов, назначив новые выборы. Которые и провели, но с такими чудовищными подтасовками, что большинство в новом созыве получили проигравшие консерваторы, - но Педру, отклонив многочисленные, более чем обоснованные жалобы, утвердил итоги.
Естественно, либералы обиделись и выразили «фэ», особенно на юге и в центре (север как раз злорадствовал). Однако «фэ» было тихое, почти пушистое: созывать весь мир голодных и рабов приличные люди, памятуя «лачужников» и «корзинщиков», опасались, поставив под ружье только клиентов, личные армии и наемных жагунсо, так что все ограничилось подергиваниями: мятеж в Сан-Паулу придушили походя, а Revolução da Familia («семейную революцию») в Минас-Жераис завершилась, как только ее вождь, депутат Теофилу Оттони, понял, что войска из центра таки намерены стрелять.
Однако правительство, победив, не стало мстить, - напротив, протянуло недовольным руку. В какой-то степени, по желанию императора, парня доброго и не мстительного, однако консерваторы в целом тоже не хотели углублять конфликт. Поэтому никаких казней, вообще, никаких репрессий не учинили, показав, что хотело бы объединить все силы, так или иначе заинтересованные в развитии страны на основе плана «Regresso», то есть, приведения местных полномочий в соответствие интересам государства в целом. Так что, через полтора года выборы прошли относительно нормально, и либералы вернулись на мостик. Теперь, посидев не у дел и подумав, они, в основном, пришли к выводу, что единство, в самом деле, стоит обедни, и готовы были работать в коалиции.
И вот теперь, решив самые принципиальные вопросы, научившись понимать друг дружку, отметая несущественное, обе «партии» начали решать проблему Риу-Гранди-ду-Сул самопровозглашенной республики, подававшей скверный пример другим провинциям. Благо, ситуация на югах за несколько лет изменилась: после первых успехов, Республика переживала не лучшие времена.
Формально-то все шло недурно: и государственность укрепили (Бенту Гонсалвис бежавший из Баии в начале «Сабинады», занял свой пост и оказался неплохим администратором), и армию создали, - но выправить положение на фронтах после отступления из Санта-Катарины не уда лось. Повторный поход на Порту-Алегри не заладился, а в ноябре 1842 года, Альвис де Лима, барон Кашиас, уже известный, как победитель «корзинщиков», но еще не крупнейший полководец Империи (это будет позже), разбил при Санта-Лучии лучшую полевую армию республиканцев, - аж шесть тысяч штыков, - взяв в плен самого уважаемого генерала «оборванцев», Октавиу Фелисиану.
Совсем не слава богу было и на политическом фронте. Когда 1 декабря 1842 года в городе Алегрете собралось долго откладывавшееся Учредительное собрание, - чтобы , наконец, принять конституцию, которую очень ждала армия, - пар вышел в свисток. После многодневной перебранки разъехались, так и не решив основные вопросы, и если проблема рабства была не очень актуальна, - основная часть негров, встав под ружье, автоматически получила свободу, так что тема была, скорее, делом принципа и волновала, в основном, итальянских карбонариев, - то с землей вышло куда сложнее.
Гаучо, костяк республиканских отрядов, рассчитывали, что арендуемые ими участки станут их собственностью, - в конце концов, им это обещали, и никто слова назад не брал, - но далеко не все фазендейру, даже радикалы, соглашались отказаться хотя бы от клочка своих бескрайних фазенд. Во всяком случае, просто так, без компенсации. Идти до конца во имя чистой идеи соглашался разве что сам Бенту Гонсалвис да пара-тройка таких же чудиков.
Очень понятно, очень по-человечески, однако нулевой результат сессии, разъехавшейся, так и не назначив дату второго съезда, изрядно обескуражил фронтовиков. Кое-кто, плюнув на все, дезертировал, моральный дух оставшихся отнюдь не подрос, да и приток волонтеров поиссяк. А тут еще в феврале 1843 года Антонио Росас, диктатор всея Аргентины (в соответствующей главе о нем мы еще поговорим) атаковал Уругвай с суши и с моря, и страна-союзник, ранее бывшая надежным тылом, волей-неволей прекратила помогать республиканцам, поскольку самой стало тяжко.
Естественно, прервалась и связь с Европой, поддерживаемая через Монтевидео, - важный источник пополнений войск (иммигранты в обмен на гражданство вставали под ружье) и бюджета. А к барону Кашиас, назначенному президентом провинции Риу-Гранди-ду-Сул, подкрепления шли неуклонно, и он, выдвигая способных командиров без поправок на происхождение и цвет кожи (чего раньше не было) неспешно теснил республиканцев, отжимая город за городом.
После бури
Естественно, в элитах республики начались раздоры. Поставив вопрос ребром, - «Пора натянуть сапоги Робеспьера!», - но не найдя понимания, подал в отставку Бенту Гонсалвис, а его преемник, «вечный второй» Васконселус Жардим, тоже идейный, но куда более взвешенный, уже спокойнее слушал тех, кто предлагал пойти на «продуктивный компромисс». Разумеется, партизанить в пампе можно было еще хоть год, хоть три, никому из «лучших людей» республики такая перспектива не нравилась.
Людям надоела тянущаяся десять лет война, людям хотелось покоя, а поскольку Рио, стремясь восстановить территориальную целостность, крови не жаждал, 1 марта 1845 года в Пончо Верде был подписан Акт умиротворения. Условия самые мягкие: почетный мир, полная амнистия, «лучшие люди» республики (отныне снова провинции) сохранили воинские звания и должности (уже как имперские чиновники), а также политические права, включая право выставлять кандидата на пост президента провинции.
Вот, правда, все законы Республики отменялись, включая закон об освобождении рабов (кроме ставших офицерами, но таких было мало). Однако бывшим владельцам «говорящую собственность» не вернули, а перевели в категорию «государственных рабов», то есть, свободных, но без политических прав, как негры в нынешней Прибалтике. Что же до гаучо, они остались при своих, пролив много крови, но ничего не выиграв, - как, впрочем, и всегда бывает с массами по итогам всех революций.
Во многом, следует отметить, способствовал охлаждению страстей, принятый 12 августа 1844 года «совместный» (предложенный обеими партиями) закон о отмене «британских льгот», - тех самых минимальных пошлин на ввоз для сэров, которые, разоряя местных производителей, бесили их и превращали города побережья в пороховые бочки. Теперь сэры обязаны были платить столько, сколько все, - а недовольное ворчание Лондона в Рио просто проигнорировали, и никаких репрессалий не последовало. Оказывается, достаточно было просто проявить твердость.
После этого популярность властей и лично молодого императора в «самой горючей среде» взлетела в разы, а общая ситуации резко пошла на поправку. Ибо местные товары стали конкурентоспособны, а ничего большего мелкий и средний бизнес не желал. Ведь, согласитесь, если окно возможностей открыто, зачем бить стекла? Совершенно ни к чему. А рабство? Ну да, конечно, некрасиво, но без рабства ж на плантациях никак, а нам свободные руки пока что не нужны, сами справляемся, - ну и не зачем раскачивать так хорошо поплывшую лодку.
В общем, меры, предпринимаемые Рио при активном участии лично Педру, быстро входившего в дела, оправдывали себя. Расхристанная страна успокаивалась, настало время для людей с инициативой, желающих заниматься протестом против непонятно чего поубавилось. Последний отголосок «огненного десятилетия», - правда, очень громкий, - прозвучал в 1848-м, в долго молчавшем Пернамбуку. Однако уже не с подачи «старых» либералов, то есть, традиционных хозяев власти, старавшихся эту власть сохранить: дали о себе знать либералы «новые», ранее бывшие никем и желавшие стать кем-то.
По сути, те же силы, что в это время за океаном впервые щупали на прочность Европу – мелкие торговцы, ремесленники, всякого рода разночинцы. Такая себе «национал-демократия», доселе игравшая роль удобной массовки во взрослых играх, но начинающая формулировать собственные цели. Ничего чересчур. Во-первых, убрать иностранных поставщиков (сбивают цены) и скупщиков (навязывают цены). А во-вторых, угомонить «отцов» местной «фамилии» Кавальканти, «сахарных королей», навязывавших богатому Ресифи свои правила игры.
До какого-то времени центр такие настроения поощрял (в столице семью Кавальканти тоже не любили, как сепаратистов), и радикалы, пользуясь этим, создали свою партию, названную Praieiros, поскольку штаб-квартира ее располагалась на улице O Praieira (Приморская). Разумеется, узнав о шквале европейских революций, «прайеры», - очень левые, по сути даже не «экзальтадос», а скорее, стихийные демократы эсеровского склада, - оживились. И тут в сентябре 1848 года в Рио случилась очередная перетряска кабинета, вернувшая руль консерваторам, тут же назначившим президентом провинции человека, близкого к Кавальканти, у которых на «прайеров» и их прессу имелся давний и острый зуб.
Ничего удивительного в том, что радикалы, посовещавшись и ничуть не сомневаясь, что массы на их стороне, решили бить на упреждение. 7 ноября организованные ими отряды, до тысячи вооруженных и весьма пылких борцов за народное дело, собрались в окрестностях Ресифи и отрезали город от внутренних районов про¬винции. Огласили программу, до боли напоминавшую тезисы принца Сурамбука из милой (если кто не читал, обязательно прочтите) повести Льва Кассиля «Будьте готовы, Ваше Высочество»: «Слоны всем! В ямы никого! Мерихьянго – вон!». Или, если проще, «Рынки – тутэйшим, избирательные права всем, долой безработицу» плюс «Земля крестьянам», естественно, за счет раздела латифундий Кавальканти. И чтобы никто не ушел обиженным.
Только о рабстве ни слова, даже в порядке пожелания, - но это же все-таки был север, где о таком не помышляли даже самые-самые радикалы вроде Андреаса Боржиса да Фонсеки, ультралевого журналиста, поклонника Бланки и неформального лидера «прайеров». Разве что пехотный капитан Педру Иву Велозу да Силвейра, еще один лидер партии, по взглядам социалист-утопист, заговаривал о республике «социальной солидарности для всех», но, оставаясь в гордом одиночестве, умолкал и свою мечту никому не навязывал.
Как обычно, старт получился бодрый, вдохновляющий. Инициативу «прайеров» подхватила глубинка, имевшая основания ненавидеть Кавальканти даже больше, чем люди из Ресифи, где влияние магнатов все-таки было хоть как-то ограничено, назначенцы «фамилии» вылетели из мэрий даже таких немалых городов, как Игарасу и Олинда. Ряды Народной Армии после этого выросли до двух тысяч штыков, и демократы двинулись на Ресифи, устанавливать демократию в масштабах провинции, но штурм, состоявшийся 2 марта, окончился не так, как рассчитывали (гарнизон был крепок и к бою готов). После чего, посовещавшись, лидеры революции решили, разделившись на две колонны, идти вглубь материка, наращивать мускулы.
Однако не удалось: армия, усиленная отрядами «жагунсо», нанятых Кавальканти, села повстанцам на хвост, и очень скоро северная колонна, ведомая Боржисом де Фонсекой, попав в засаду, сложила оружие. Южной колонне, правда, удалось оторваться, и она кружила по Пернамбуку еще больше года, но поднимать плантационных негров, которые охотно поднялись бы, капитан Иву так и не решился, и в конце концов, после пары десятков успешных, не очень успешных и совсем неуспешных стычек, сдаться пришлось и ему.
Впрочем, репрессии и здесь оказались мягче мягкого, максимум, тюрьмы, а в 1852-м всех амнистировали. Льготы иностранцам, идя навстречу пожеланиям общественности, отменили отменили (Ресифи сказал: Obrigado!). И клану Кавальканти поставили на вид, а тут «Obrigado!» сказал весь Пернамбуку. Центральная власть, чувствуя, что ветер изменился, могла позволить себе гуманизм: она перехватила инициативу, у нее была вполне конкретная программа, и условия благоприятствовали…
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НА ДАЛЕКОЙ АМАЗОНКЕ (12)
Позолоченный век
И оглянулись. И увидели, что все не просто хорошо, а так славно, что лучше и не придумаешь. Началось "золотое десятилетие", удивительные годы успехов даже в том, в чем успехов не ожидал никто. Нежданно выросли и надолго задержались в зените цены на сахар и хлопок. Резко подпрыгнула доходность кофе, ранее считавшегося товаром на любителя: ныне Европа скупала все на корню и требовала еще, - а на юге для этого были все условия.
Денег стало не много, но очень много, и тратили их с умом. Вкладывали в изучение Амазонии, благодаря чему позже, в 1867-м, область, освоенная де-факто, была признана бразильской де-юре, - а между прочим, именно там впоследствии, как выяснилось, даже лучше, чем в Африке росла гевея. Инвестировали в добычу руд, в модернизацию заброшенных (мотыгами выбрали все), но еще очень богатых залежей золота и алмазов, и Европа покупала всё. Естественно, понадобились железные дороги, - и начали тянуть колеи. А поскольку новые производства требовали множества грамотных людей, начали открывать школы, доступные всем, хоть чуть богаче церковной крысы.
Короче говоря, в будущее с оптимизмом смотрели абсолютно все, а это способствовало упрочению скреп. От добра добра не ищут, - теперь даже в самых бунташных провинциях народ, в основном, ловил удачу, и хотеть странного не было времени практически ни у кого, а если кто-то и позволял себе вольнодумие, - так что ж, в правовом демократическом государстве почему нет? Даже в элитах, вечно недовольных тем, что имеют, борьба сошла почти в ноль,
или, по крайней мере, к разумному минимуму.Консерваторы прочно держали бразды, более чем не обижали себя, но, поскольку, как менеджеры, были эффективны, претензий к ним не имелось, и они тихо-тихо укрепляли "вертикаль", все больше подчиняя регионы центру, а чтобы либералы не считали себя обойденными, их представителями всегда находились теплые места на всех уровнях государственного аппарата.
Правда, - ну ведь никогда не бывает, чтобы все было совсем уж хорошо, - возникла новая проблема. Вернее, новые люди, или еще точнее, - "новые либералы". В отличие от "старых", - вальяжных фазендейру, желавших всего лишь, как в добрые старые времена, быть хозяевами в своих провинциях, - это были классические homo novus, выскочившие словно бы ниоткуда. Торговцы, сделавшие состояния на руде и вложившиеся в производство, мелкие южные фазендейру, не способные конкурировать с «сахарными королями» севера, а потому сделавшие ставку на "сомнительный" кофе, и угадавшие, банкиры европейского уровня типа знаменитого виконта Мауа. И так далее. И тому подобное.
Естественно, в потенциале это был очень взрывоопасный материал: быстро становясь на ноги, они ощущали себя новой силой, и сила эта, не вмещаясь в привычные рамки, рано или поздно не могла не потребовать своей доли участия в политике. Да, собственно, сразу начала требовать. Всякого. Отмены госмонополий на торговлю сырьем, например. Или расширения прав провинциальных собраний (раз уж в центре все занято, то хотя бы так). Но в тот момент об этом еще никто не думал, и они сами тоже:
им, вставшим на ноги, нужно было укрепляться. Брать кредиты, вкладывать деньги в раскрутку производства, разворачивать новые кофейные плантации и прочее в этом роде. А значит, срочно требовалось огромное количество рабочих рук. И вот это-то стало первой проблемой. Если раньше вопрос решался просто: очередными партиями рабов, скупаемыми на корню прямо по прибытии, то именно теперь, как назло, стало тяжко.
Собственно говоря, официально "тяжко" было и раньше. Согласно договору с Англией, покупка невольников в Бразилии наистрожайше воспрещалась, работорговцы подлежали аресту и суду, а любой чернокожий, ступив на бразильскую землю, автоматически становился свободным. Однако все это на бумаге, а в реале рабов везли и везли, до 50 тысяч голов в год. И не просто везли, а в 1837-м (еще при Регентстве) вообще отменили запрет, не отменяя закон. Ибо когда речь о стабильности производства, кто же обращает внимание на законы?
А между тем, кое-кто обращал. Для Англии вопрос о работорговле был принципиален во всех смыслах, и Лондону не нравилось, что его водят за нос. Поэтому сэры ужесточали политику. 8 августа 1845 года был принят Акт Абердина: капитанов Royal Navy обязали перехватывать любое судно, подозреваемое в перевозке африканцев на западный берег Атлантики, и своей властью предавать работорговцев суду Адмиралтейства. То есть, никуда не доставлять, а сразу же судить, как пиратов, и вешать на рее.
Естественно, в Рио возмутились, но сэры, пожав плечами, вешали. Смельчаков поубавилось, цены взлетели так, что свежее "черное мясо" стало невыгодно покупать, и в этих условиях министр юстиции Эусебиу ди Кеирусу в сентябре 1850 года сумел провести крайне жесткий закон, подтвердивший пиратский статус работорговцев. Бразильский ВМФ включился в совместное патрулирование, - и трафик живого товара иссяк. Ибо овчинка выделки уже никак не стоило. А между тем, рабочих рук "кофейным герцогам" и "рудным графам", мечтающим стать "королями", -
и правительство, выкармливая дойную корову, начало приманивать иммигрантов. Уже не "лиц с полезными профессиями", как раньше, а кого угодно, лишь бы работать могли. Немцы, итальянцы, испанцы, - и население росло, а деньги, ранее уходившие на покупку рабов, теперь работали на организацию новых заводов, фабрик и прочей приятной инфраструктуры. И…
И самое время сказать, что все это, а равно и многое другое, о чем я забыл помянуть, Бразилия, как на "верхах", так и на "низах", связывала с именем своего императора. Бывший светленький, слегка закомплексованный мальчик подрос и заматерел, превратился в рослого, статного, очень спортивного мужчину скандинавского типа. Ничего пиренейского, весь в покойную мать: светлые кудри, синие глаза, - плюс, позже, огненно-рыжая борода, которой, конечно, не было у Леопольдины.
Без отцовского авторитаризма, напротив, очень буржуазный по характеру и привычкам, хотя и с обостренным (Браганца!) чувством чести и долга. Не гений, но наделенный здравым умом, взвешенный, слегка флегматичный, категорически не любивший роскошь и лесть, он обладал огромным чувством ответственности, понимал нужды страны и, с детства уяснив себя, как гаранта конституции, в депутатскую возню и министерские склоки старался не втягиваться. Но если возникала реальная нужда в "четвертой функции", как арбитр был решителен и, -
по убеждениям либеральный консерватор (или, если угодно, консервативный либерал), - если уж приходилось применять свою исключительную власть, применял ее лишь тогда, когда выхода не было. В основном же, предпочитал заниматься тем, в чем разбирался: культурой, поиском и внедрением новых на тот момент технологий, поиском инвесторов и внешней политикой. Это считал своим, и (трудоголик) работал на износ. Во всяком случае, в первые десять лет пребывания на престоле, пока не пришла беда, - а беда, как всегда, пришла внезапно, и не одна, а сразу две, одна за другой.
Немного светской хроники. Женили Педру, не дав и погулять, - в 19 лет. Разумеется, заочно, но невесту, неаполитанскую принцессу, он выбрал сам, ориентируя по нескольким портретам, присланным из Европы. по портрету, одному из нескольких, представленных на выбор. И сильно ошибся. Юная Тереза Кристина, едва увидев его, упала в обморок от счастья, а вот ему полненькая шатенка с запуганным выражением лица (папенька был чудовищем) в яви не понравилась совершенно. Настолько, что поначалу он ее открыто третировал, а она, влюбившись на всю жизнь, только тихо плакала.
Тем не менее, супружеский (он же, в данном случае, государственный) долг исполнял исправно. Рождению сына был дико счастлив, - это даже сблизило его с супругой, - обрадовался и появлению дочери, а потом наследник, не дожив до двух лет, умер. И второй сын тоже умер, тоже совсем малышом. Было, видимо, у кого-то что-то с наследственностью, потому что две дочери росли прекрасно, а вот мальчишки не заживались. И это надломило.
Педру, еще совсем молодой, - когда умер второй сын, ему было всего двадцать пять, - долго не мог прийти в себя, а когда пришел, был уже не совсем таким, как раньше. Он по-прежнему ревностно исполнял свои обязанности, но, как указывают многие близкие ко двору мемуаристы, уже без души, утратив интерес к политике как таковой, ибо зачем? – дочь Изабеллу, законную наследницу, он, любя и дурой не считая, всерьез все же не воспринимал.
В общем, как отмечает Октавиу Веттлинг, "оправившись после смерти принца Афонсу, после смерти принца Педру император изменился. Он делал все, что положено было делать императору, и делал это хорошо, но делал по обязанности, как хорошо отлаженная машина, без эмоций. Многим он казался идеальным правителем, но идеалом холодным, вроде мраморной статуи". Хотя, конечно, статуей не был ни в коей мере, а был, - темпераментом удался в отца, -
в свободное от дел время весьма активным бабником. Супругой, как женщиной, не интересовался вовсе, отдавая предпочтение высоким блондинкам, похожим на мать, которую он не помнил (некоторые биографы склонны усматривать тут что-то фрейдистское), примерно с 1850 года не спал с ней, но общие дети и общая боль сблизили. Педру оценил абсолютную верность итальянки и ее здравый смысл, так что, не видя в ней женщину, относясь к Терезе Кристине не как к жене, а как к самому близкому другу, которому можно доверять.
Такая вот ситуация. Но в целом, все шло своим чередом. Элиты, видевшая семейную трагедию Педру воочию, даже восхищались умением монарха, перенеся боль, взять себя в руки, а народ, не зная дворцовых сплетен, чтил Его Величество, ибо жилось в то время народу так вольготно и весело, как раньше не жилось никогда.
Проблемы сырьевой сверхдержавы
Однако опять же, не бывает света без тени. Теперь, когда приток рабов иссяк, стало хуже северным "королям", стоявшим на сахаре и хлопке. Лишних денег, чтобы платить понаехавшим, у них, в отличие от южных, "кофейных", нуворишей не водилось, и приходилось ужесточать порядки на плантациях, к чему потомственные рабы, имевшие некоторые неписанные права, не привыкли, - и началось повальное бегство в леса. А выковыривать беглецов из "киломбо" влетало в такую копеечку, что редко и пытались. Однако у "сахарных королей", - консерваторов, - имелся джокер: они были властью,
а власть всегда можно конвертировать себе на пользу. Чтобы и себя не обидеть, и стабильность не нарушить. В связи с чем, родилась свежая мысль: решить внутренние проблемы за счет соседей. Иначе говоря, вернуть контроль над Уругваем с его восхитительно доходным Монтевидео, заставить соседний, очень закрытый Парагвай поделиться торговлей по Паране, а заодно прижать и чересчур усилившуюся Аргентину, диктатор которой, Антонио Росас, "сильный человек", ставил перед собой те же задачи, что и бразильцы, и реально мог сорвать все планы.
Если, рассуждали в Рио, перехватить на себя сборы по всему побережью, чем черт не шутит, прижав и Байрес, денег хватит, чтобы перестроиться могли все. А если еще и заставить соседей покупать не европейское, а бразильское, тогда и вовсе хорошо. Почему у сэров и месье есть колонии, а у нас нет? И поскольку реальные успехи кружили головы, заговорили о том, что "судьба Бразилии доминировать в Южной Америке". Ибо "не уйти от роковой необходимости, вытекающей из антагонизма англосаксонской и испанопортугальской рас", - читай, UK&USA, go home! И la belle France тоже. Сами с усами.
Естественно, официально такое не звучало, - всерьез ссориться с сэрами и янки никто не собирался, - но близкая к "партии власти" пресса накручивала общественность на то, что иначе никак. "Эти изменения, - писал Оскар Дюто, "золотое перо" консерваторов, - необходимы до тех пор, пока мы не сможет поставить естественные, очерченные нашими интересами границы претензиям Соединенным Штатам. А так как эти границы простираются к западу далее реки Парагвай, то государство, носящее имя Парагвай, должно исчезнуть, точно так же, как и штаты Корриентес, Энтре-Риос и Банда-Ориентале, отделяющие империю от ее естественной границы, реки Парана».
То есть, ни много, ни мало, аннексия Парагвая, Уругвая и половины Аргентины. С пояснениями. "Быть может, - это еще одно "золотое перо", Рибейру д'Ассье, - в целом мире нет страны, которая имела бы более прав простереть свои границы в сторону Ла-Платы, нежели Бразилия. Это более чем политическая потребность, – это безусловно необходимо для блага страны. Все реки, образующие Рио-де- ла-Плата, т. е. Парана, Уругвай, Парагвай и т. д., представляют и долго еще будет представлять единственные водные пути для продуктов провинции Матто-Гроссо к океану и для сообщения этой провинции со столицей. Любая война на берегах этих рек отрежет Империю от ее обширнейшей провинции, и мы обязаны любой ценой обеспечить мир".
Dixi. И плевать на то, что (раздавались и здравые голоса) "Препятствия, остановившие Педру I в попытке завладеть Монтевидео, остались все те же. Громадность пространств, недостаток путей сообщения, болота, и, наконец, самое важное, различия в национальностях населения, – испанцы в Банда-Ориентале, индейцы в Парагвае, – все это делает завоевание почти невозможным".
Но кто сказал: невозможно? В это время казалось, что невозможного нет, - и Бразилия смело рванула на Большую Доску. Сперва аккуратно, со слабым Парагваем, предложив "покровительство", - и парагвайцы согласились, ибо увидели в этом выгоду. Впрочем, Парагвай – тема отдельная, о нем разговор особый, а пока достаточно сказать, что республика эта долго была совсем закрытой от мира и только-только приоткрывалась.
Поэтому люди из Асунсьона были даже рады сотрудничеству с большой, богатой и либеральной Бразилией, где, в отличие от Аргентины, тоже большой и богатой, но, мягко говоря, не либеральной, не лилась кровь. А что на роль младшего партнера, так оно понятно, учитывая удельный вес. В итоге, льготы с судоходством по Паране бразильцы получили добром, вместе с послушным союзником, - и воодушевились. До такой степени, что в 1851-м рискнули пойти куда дальше, вписавшись в бесконечную, крайне кровавую гражданскую войну в Уругвае, - и вновь удача.
Справились, взамен получив вечный союз, право на вмешательство во внутренние дела соседа, льготы с судоходством по Уругваю и еще кучу вкусняшек, включая солидные, ранее спорные территории. Даже по покоренному Байресу прошли маршем, - 23 февраля 1853 года, в очередную годовщину злосчастной битвы при Итусаинго, отомстив за поражение, - и Росаса прогнали (об этом в отдельной главе, про Аргентину), и более того, когда Лондон, имевший свои интересы на Ла-Плате, выразил неудовольствие, раскуражившись, дали понять, что готовы пободаться и с сэрами, - а сэры связываться не стали. Ничего не забыли, конечно, но отложили вопрос на потом.
Это, - самая середина века, - был пик. Зенит. Престиж власти окреп до возможного максимума. О сепаратизме и думать забыли, даже в не так давно мятежной Риу-Гранди-ду-Сул. Если еще недавно в ответ на вопрос "Ты кто?" ответ следовал соответственно месту рождения, - сarioca, paulisto, bajiano, - то теперь стало модным и престижным именовать себя "бразильцами". Даже европейские государства, и даже такие, как Англия и Франция, казалось, признали Бразилию равной себе.
Но так только казалось, потому что проблемы никуда не делись. Ибо страна, как ни крути, сколь бы динамично ни развивалась, оставалась сельскохозяйственной и сырьевой, промышленность только-только становилась на ноги, - и "блестящий век" блестел, по сути, благодаря уникально удачной конъюнктуре цен на все, что предлагалось на продажу. А примерно в 1853-м цены на сахар и хлопок резко пошли вниз, и уже не хотели подниматься. Просто потому, что сахар с Кубы был дешевле, и хлопок с американского юга тоже был дешевле, а европейским оптовики, естественно, не покупали дорого то, что можно было купить дешево.
Вот кофе, правда, оставалось в цене, - но это означало, что теперь южным плантаторам и сырьевикам, придется брать на себя основную тяжесть наполнения бюджета, ибо консерваторы, плотно связанные с севером, делали все, чтобы облегчить жизнь своим «фамилиям». Что в свою очередь, мешало расширять "кофейные королевства". Естественно, приток иммигрантов подусох, и вновь поползли разговорчики. Не об отделении, но об автономии, - и на сей раз эпицентр недовольства был на юге.
Как следствие, страну залихорадил перманентный кризис власти, - несмотря ни на какие "правительства примирения". Ибо "старые либералы" с севера были уже не так сильны, а "новые", поднявшиеся на кофе, за поддержку требовали уступок, на которые консерваторы пойти не могли. В 1862-м впервые не удалось сверстать бюджет, банки закрылись, - и выяснилось, что без займов никак, а дать займы могли только англичане. Но под серьезные проценты и с условием,
что товары Бразилия будет покупать английские, - и хотя условие это резало поджилки совсем еще слабенькому собственному бизнесу, вариантов не было, - взяли. И конечно, растратили на затыкание дыр, а ситуация после легчайшей передышки усугубилась, - и в конце концов, на очередных выборах либералы неожиданно для себя победили.
Причем, победили благодаря очень эффективной поддержке «кофейных» королей из Сан-Паулу, что открывало «новым людям» дорогу в структуру, где места для них не были предусмотрены, а учитывая их требования, грозило поставить под удар всю тщательно выстроенную систему сдержек и противовесов. Она, эта система, правда, уже безнадежно устарела, но умирать по этому поводу не собиралась, - и консерваторы обратились к императору,
а тот, выслушав людей, на которых привык опираться, сделал то, на что имел полное право, пользоваться которым крайне не любил: 12 мая 1863 года новоизбранная палата была распущена. От такого Бразилия за много лет успела отвыкнуть, престиж консерваторов рухнул, новые выборы они проиграли с еще большим треском, однако император вновь доверил формировать правительство им, - а воля монарха пока еще по умолчанию считалась неоспоримой.
Однако кризис власти не прекращался, - и мало кто понимал, что проблема не в надстройке, а в изживающем себя базисе. А не понимая, искали легких решений, придя в итоге к выводу, что остается только ultima ratio regis. То есть, сами понимаете, последний довод королей.
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НА ДАЛЕКОЙ АМАЗОНКЕ (13)
До свидания, мальчики...
Подробно о Парагвайской войне не тут. Это потом, когда переберемся на Парану. И о связавшемся вокруг устья Ла-Платы гордиевом узле поговорим в главах об Аргентине и Уругвае. А если вкратце, то в 1863-м в Уругвае началась гражданская война, что в Рио восприняли с радостью. За десять лет до того, оказав помощь, Империя взыскала с осчастливленных такую плату, что в Монтевидео задумались, не лучше ли было подчиниться Росасу, - и поскольку Росаса уже не было, Уругвай начал дрейфовать под Аргентину, но еще более того завязываться на Парагвай.
А там ситуация развивалась вообще интересно, - ибо среди бывших испанских колоний Парагвай был по многим параметрам уникален. Верховный Правитель этой тогда еще большой, но не имеющей выхода к морю страны, д-р Франсиа, наглухо закрыв ее от внешнего мира, двадцать лет ковал из индейцев-гуарани нацию, религией которой был Партиотизм. Затем, когда Верховного не стало, его преемник Карлос Лопес, начал понемногу выводить Парагвай из самоизоляции, более чем успешно строя экономику,
а политически дружа со всеми сильными, кроме Аргентины, не скрывавшей, что считает независимость Парагвая недоразумением. И наконец, сын Лопеса, Франсиско Солано, поставил перед собой задачу амбициознее некуда: сделать Асунсьон «третьей силой» в регионе, с выходом к морю через Уругвай, объяснив людям в Монтевидео, что порознь и нас, и вас сожрут, а вместе мы сила. Что, конечно, не понравилось ни людям из Байреса, ни людям из Рио. Ну и…
Ну и. Вновь, как и десять лет назад, имперские войска двинулись в Уругвай, на сей раз помогать не законному правительству, а мятежному, но пробразильскому генералу Флоресу. И вновь успешно. Флорес победил, стал законной властью, - однако на сей раз Судьба выписала совершенно неожиданный зигзаг: в защиту маленького и слабого вписался Солано, имевший точные данные о том, что он на очереди, и поскольку его армия была в 2,5 раза больше бразильской, решивший атаковать.
И плюс к тому, вмешались Лондон и Париж, имевшие свои виды на устье Ла-Платы, и в Рио приехал посол с ультиматумом. Коротким и ясным: как десять лет назад не выйдет, великие державы берут Уругвай под себя (президент Флорес не возражает), и если Бразилия будет ерепениться, гарантируют ей полную блокаду плюс испепеления побережья. В Рио, чертыхнувшись в адрес предателя, к сообщению отнеслись серьезно и войска из Уругвая отвели почти даром, можно сказать, за gracia.
Однако Лондон и Париж ничего не имели против войны Империи с Парагваем (излишняя борзость Лопеса, мечтавшего создать великую державу, европейцев нервировала), - так что, ежели угодно, вперед. А имперскому правительству было очень даже угодно. Консерваторам требовалась война. Любая. А Парагвай – это ведь, помимо всего прочего, Парана с ее таможенными сборами, и к тому же, как он ни развит, но супротив Бразилии все равно, что плотник супротив столяра. Так что, пусть война легкой прогулкой и не будет, но и тяжелой тоже. Тем более, что Аргентина готова поддержать (за часть парагвайских территорий), и предатель Флорес тоже готов рассчитаться, параллельно исполнив мягкие пожелания новых европейских спонсоров.
В итоге, 8 мая 1865 года акт о создании оси «Рио-Монтевидео-Байрес» был подписан, и бразильская армия отправилась побеждать. В этом вопросе власть слилась в экстазе с общественностью, никто не возражал против военных расходов и даже против непопулярного принудительного набора. Вот только война оказалась страшной, по ожесточенности имеющей мало аналогий в богатой на войны истории человечества. Подробности, повторяю, в соответствующей главе, но главное: парагвайцы дрались за свою землю так, что уже через пару месяцев активной деятельности выпал Уругвай, а через год практически заморозила участие в событиях Аргентина.
В итоге, Т лямку пришлось тянуть на себе Империи, причем, откровенно ставя на то, что парагвайцев ровно в десять раз меньше, нежели бразильцев, и выхода к морю, то есть, поставок, у них нет. И сразу же обнажились все проблемы. Денег, вотированных на легкую войнушку, конечно, не хватило, пришлось занимать у Лондона. Должного количества оружия и боеприпасов слабая промышленность обеспечить не могла, и пришлось покупать опять-таки у сэров, в кредит, под проценты. Но главным дефицитом оказались люди. 8 тысяч кадровых солдат плюс столько же первого набора, которых, как думали в Рио, хватит с лихвой, к лету 1866 года сгинули. Даже не столько от парагвайских пуль и штыков, сколько от злобного влажного климата и малярии: сельва тоже сражалась с агрессорами.
Затем истощились белые люди (за 5 лет войны без правил армия увеличилась в четыре раза, причем из 83 тысяч мобилизованных треть погибла, а еще треть вернулась калеками). Начали освобождать негров, тут же забривая их в ряды. Сперва государственных рабов, затем выкупленных (за британские деньги) у монастырей. И без толку: сельва пожирала роту за ротой, финансы визжали, очередное «правительство примирения» трещало по швам, Дом Педру с трудом удерживал вожжи (консерваторов злило освобождение негров, как факт, либералов – дырки в бюджете, а населению, естественно, не нравились новые налоги и похоронки).
В таком режиме прошел весь 1867-й, в результате чего на очередных выборах абсолютное большинство голосов взяли либералы, предлагавшие начать с Асунсьоном мирные переговоры, - однако эту идею встретили в штыки консерваторы и, что особенно важно, генералитет, ранее не очень влиятельный, но теперь набравший большую силу. Да и самому Дом Педру было ясно, что мир без победы расшатает единственно понятную ему конструкцию власти.
В июле 1868 года он, используя свое право, вопреки результату выборов, назначил полностью консервативное правительство, объявившее «Войну до победного конца». А когда палата выразила свое недовольство, распустил палату. А когда после очередных выборов палата стала еще либеральнее, вновь распустил, оставив у руля консерваторов.
Не считаю себя вправе судить, насколько это было разумно, - прерывать войну, вышедшую на такой уровень, видимо, не представлялось возможным, - однако побочный эффект был неизбежен. Если раньше крайне редкие, только при острой необходимости акции «четвертой функции» общественность встречала с пониманием, то теперь, - трижды подряд и вопреки очевидно высказанной воле избирателей, - это уже смахивало на «тиранию». И хотя лично Дом Педру никто тираном не считал, его престиж сильно упал: роспуски палаты общество сочло «колоссальной ошибкой», и вновь зазвучали предложения «урезать» полномочия монарха, вернув регионам былую самостоятельность.
Однако пока идет война, не до реформ, и всем было ясно, что война будет продолжаться до последнего, а уж бразильца или парагвайца, это судьба. В итоге, Империя все-таки передавила, просто массой, выяснилось, что население Парагвая уменьшилось вдвое, причем мужчин осталось около 5%, но, тем не менее, в Рио праздновали победу. Полную. С репарациями, - хотя что уж там было с уничтоженных брать? – выгодным договором о дружбе и большими, потенциально весьма перспективными территориальными приращениями.
Перемен требуют наши сердца!
И пришло время расставлять слоников. Что рабство стало гирей, и раньше понимали многие. Теперь это стало ясно подавляющему большинству, кроме разве что «сахарных королей», но их позиции ослабевали из года в год: кубинский и европейский, из свеклы, сахар вытеснял бразильский с рынка. Аболиционизм входил в моду. Убежденным аболиционистом был и сам Дом Педру, и императрица, и кронпринцесса Изабелла, причем, если мать и дочь – из соображений высокого гуманизма, то отец еще и потому, что разбирался в экономике.
Отменить рабство волевым решением он, хотя право имел, естественно, не мог, - это означало бы ограбить множество людей, на которых он опирался, а у этих людей были все возможности постоять за себя, - однако пытался убеждать, еще в 1864-м предложив законопроект о поэтапной отмене рабства, однако война прервала обсуждения этой непростой темы, хотя с повестки дня она не ушла: в 1867-м в тронной речи тезис о том, что рабство, хрен с ней, с моралью, стало тормозом развития, и с ним пора кончать, прозвучал пятикратно. Опять же всячески поощрял иммиграцию, даже организовал завоз послушных и работящих куда там неграмкули из Китая.
В общем, «поспешай медленно». Но принцип «тише едешь, дальше будешь» поддерживали далеко не все, потому что стабильность, превратившаяся в застой, мешала многим, и «кофейные короли» юга готовы были оплатить любые законные действия энтузиастов, ибо в старую добрую систему сдержек и противовесов они не вмещались, и получить место могли только вытеснив на обочину консерваторов, - то есть, добившись полной отмены рабства.
Поэтому стихийные кружки прекраснодушных интеллигентов, читавших на кухнях вслух самопальные переводы «Хижины дяди Тома» в годы войны стали превращаться в серьезные, с банкетами по завершению «дискуссионные сессии», затем возникло «Общество освобождения рабов» с филиалами по всей стране и солидным бюджетом, формируемым из пожертвований. Потом завсегдатаями «дискуссий» стали солидные либеральные политики, в основном, южане, члены престижного Clube de Reformas para a reestruturação («Клуба реформ ради перестройки»),
фактически взявшие Общество под контроль, а в 1869-м появился и Manifesto da plataforma republicana («Манифест республиканской платформы»), документ длинный, но, в общем, простенький. Всего три пункта: свобода торговли, ограничение «четвертой функции» императора и отмена рабства, - и наконец, в июле 1871 года году несколько десятков самых левых либералов порвав с «умеренными», объявили о создании Республиканской партии, вписав в программу не только готовность к борьбе за прямые выборы президентов провинций, но и намерение упразднить монархию. Ибо «Мы живем в Америке и хотим быть настоящими американцами».
Консерваторов все это, естественно, тревожило. Настолько, что в какой-то момент, не умея справиться с ситуацией, они сами сочли уместным уступить место либералам во главе с Жозе да Сильва Парангосом, виконтом Риу-Бранку, с которым Дом Педру было очень комфортно работать, ибо они понимали друг дружку с полуслова. И 21 сентября 1871 года (императора не было в стране, он уехал в Европу) премьер провел в палате Lei do Ventre Livre («Закон о свободном чреве»), мгновенно подписанный принцессой-регентшей.
Акт опубликовали тотчас, и с этого момента все дети рабынь, рожденные после публикации, объявлялись свободными, правда, с оговоркой, что до двадцать первого года они должны оставаться во власти хозяина матери для возмещения расходов на их воспитание. По сути, закон мало что менял, скорее, наоборот: если раньше владельцы берегли дорогие вещи, чтобы они могли нормально войти в полную силу, то теперь из детей (имущество ж временное, чего жалеть?) начали выжимать все соки.
К тому же, и после 21 года новый «полноправный подданный» оставался там же, где вырос, на тех же правах, просто потому, что не знал ничего, кроме рубки тростника, - да в общем, ему и податься-то было некуда, ибо в рамках этики рабовладения негр, если не имел на руках вольной от господина, всегда был «чей-то». Впрочем, всех коронных рабов тоже освободили.
Либералы сочли это большим шагом вперед, консерваторы, в основном, приняли, как наименьшее зло (хотя самые крайние сочли «изменой»), республиканцы же и аболиционисты устами одного из своих лидеров, Жоакима Набуку, окрестили «жалкой полумерой», но на какое-то время страсти слегка подутихли, и Дом Педру, вернувшийся из европейского турне, получил время для передышки.
По сути дела, добиваться компромисса было его стихией, власть, как таковая, его никогда не привлекала, и он готов был ею поделиться, но аккуратно, не нарушая баланс. А потому, около года поработав над отчетами с мест, в 1873-м предложил «императорский проект» реформ, заявив, что «наш закон о выборах прекрасен, но устарел. Пора сделать его подлинным выражением народной воли. Уверен, что избирательная реформа, допустив к участию в общественных делах новые силы, обеспечит первое условие нашей формы правления, основа которой уважение к общественному мнению и авторитет закона». А далее о самом актуальном: децентрализация, иммиграция, индустриализация.
Это была хорошая, толковая программа, и общество ее приняло, однако случился досадный сбой: в 1874-м Дом Педру поссорился с церковью. Бразильский клир, повинуясь указаниям Рима, сделавшего в то время резкий крен вправо, потребовало ограничения предусмотренной конституцией свободы слова, клерикализации образования и запрета давать гражданство иммигрантам-иноверцам, а получив отказ, призвало «верных» к сопротивлению, вылившемуся в погромы и даже довольно крупный мятеж.
Бунт подавили, после чего Дом Педру отдал под суд трех влиятельных и фанатичных епископов, в марте 1874 года получивших серьезные сроки. Правда, вскоре последовала амнистия, но клерикалы взбесились, проклиная «правительство отлученных», консерваторы их поддержали, городские низы, привыкшие доверять своим падре, заволновались, и очень эффективный кабинет, с которым император находил общий язык, пал. Консерваторы вернулись к рулю, - но с этого момента клир стал врагом монархии, готовым сотрудничать с кем угодно, если против «притеснителя церкви».
А мы с тобой, брат, из пехоты...
А император между тем сдавал. Еще совсем не старый, могучий, он работал, как всегда, с полной отдачей, но уже через силу, ощутимо теряя кураж. Он по-прежнему был уверен, что стабильность системы гарантирует прогресс, и не понимал, что «новые силы», как он их называл, стремятся не к компромиссу, а к руководству. К тому же, по мере взросления дочери, Педру все чаще вспоминал умерших сыновей, время от времени впадая в депрессию.
Порядку в политикуме, привыкшему к наличию безупречного арбитра, это не способствовало, зато консолидации «новых сил» способствовало в полной мере, и Республиканская партия, пока не имея потенциала завоевать парламент, завоевывала общество провинций, становящихся «локомотивами» имперской экономики. Риу-Гранди-ду-Сул, Сан-Паулу и Минас-Жерайс уже находились под ее влиянием, интеллигенция тоже (быть консерватором и монархистом вышло из моды), в ее ряды сотнями вливались иммигранты из Европы, в основном, знакомые с модными «социальными» теориями и понимающие, чем идеи Бланки отличаются от идей Сен-Симона, а идеи Прудона от идей Маркса. Ну и, помимо прочего, нельзя умолчать о господах офицерах.
Дело в том, что из котла войны армия Империи вышла совсем не той, какой в нее вступила. Раньше-то была она невелика, главным образом, наемная (принудительные наборы применялись в редчайших случаях), а офицерский корпус состоял сплошь из «благородных», - но это не считалось престижным, потому что боевые действия, в основном, сводились к подавлению мятежей, а какая уж тут слава? Никакой. Да и реального боевого опыта не наберешь. Что и проявилось в ходе войны с Аргентиной. И вообще, рассчитаны были имперские вооруженные силы на правильную войну тех времен, то есть, когда супротивники красиво выстраиваются в поле и честно бьют друг дружке морды вплоть до приличного исхода.
А вот в Парагвае бразильцам пришлось столкнуться с войной Отечественной, в самом страшном смысле слова, когда даже ребенок пяти лет мог ткнуть ножиком, а сельва перемалывала роты, выплевывая руки и ноги. Старую армию порвали за год, пришлось набирать не только новых солдат, но и, наскоро обучая, новый офицерский корпус, из разночинцев («благородные» не горели желанием), и повышения давать не по выслуге, но по заслугам. Это, хотя на бумаге никаких новшеств не фиксировали, называли «реформой Кашиаса» (барон, взлетевший на фронте в герцоги, был истинным воином, он чувствовал своих солдат и понимал, что делать), и армия изменилась.
Теперь это была каста. Пожалуй даже,субкультура. Со своими кодексом и символикой, повязанная кровью. Переосмыслив все заповеди, и Божеские, и человеческие, она доверяла только тем, кто был в Парагвае. Вне зависимости от цвета кожи, - потому что последние призывы, которые они вели в бой, были сплошь «черные», а бывшие простые мальчишки, и без того в детстве шлявшиеся в разноцветных компаниях, теперь и вовсе не понимали, как сержант Жозе, воин от Бога, или капрал Жоржи, золотой камрад, вообще мог быть рабом.
То есть, «парагвайцы» были сплошь аболиционистами, да еще и презиравшими «штафирок», из-за которых в стране, несмотря на победу, кризис, и считали себя достойными многого. Как минимум, уважения. К себе, вернувшимся, - чтобы никакая тварь в сюртучке не позволяла себе свысока бросать инвалиду: Infanticida! («Детоубийца!»), а тем паче: Não te enviei para o Paraguai! («Я тебя в Парагвай не посылал!»), и к памяти павших. Можно даже без памятников, -
но чтобы хотя бы пенсия калекам и вдовам была не так оскорбительно мала, и не приходилось скидываться с получки. Которую к тому же из-за кризиса урезали. А слухи о планах сокращения кадров, - только подумайте, «слишком больших для мирного времени», - вообще доводили до белого каления, - и каста, не мыслившая себя вне войны, искала место в мире, где войны не было, а ее считали лишней, стараясь выработать новые смыслы.
Брать пример с испаноязычных соседей, где путчи были рутиной, правда, не стали, - в Бразилии такое считалось варварством, - но в офицерских собраниях стали популярны свежие теории, доносящиеся из Европы. Вошли в моду «читальни вскладчину». Лейтенанты и капитаны выписывали газеты, учили языки, чтобы читать инопрессу, прочитанное реферировали, обсуждали, посиделки становились все осмысленнее, а круг участников все шире, и поскольку заниматься политикой конституция военным не возбраняла, - ничего удивительного в том, что на заседаниях республиканских ячеек появились потертые мундиры…
Продолжение следует.
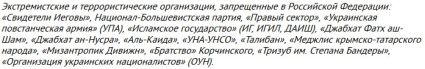
Похожие статьи:
22 марта 2022, Вторник
Лев Вершинин: Генштаб и Украина
14 марта 2022, Понедельник
Лев Вершинин: Выбраковка
06 сентября 2016, Вторник
Андрюха "Червонец": Что было бы, отбрось СССР Гитлера ровно до своих границ? Ответ до крайности прост...
03 мая 2023, Среда
ElanakovBrief: То есть вот атаки на Белгородскую, Брянскую, Курскую, Ростовскую области, Краснодарский край, Республику Крым — не атака на Россию?
14 апреля 2022, Четверг
Давайте поможем